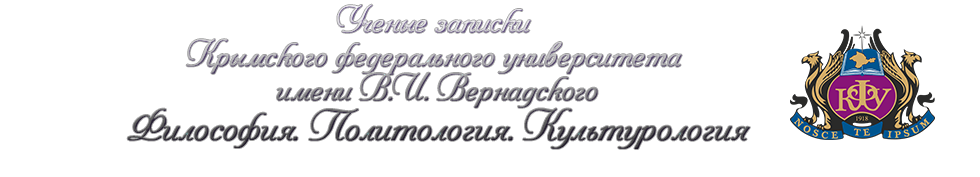КУЛЬТУРА ПОЛОВОГО СИМВОЛИЗМА.
НЕОЖИДАННЫЕ ТРАНСКУЛЬТУРНЫЕ ИНВЕРСИИ
CULTURE OF SEXUAL SYMBOLISM. UNEXPECTED TRANSCULTURAL
INVERSIONS
JOURNAL: « PROCEEDINGS OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE/ PHILOSOPHY/ POLITICAL SCIENSE. CULTURAL STADIES »
Volume 10 (76), № 4, 2024
Publicationtext (PDF): Download
UDK: 130.2+902
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Kislyi Alexander Evgenyevich – Doctor of Historical Sciences, Head of the Kerch expedition Institute of Archaeology of Crimea, Russian Academy of Sciences, Simferopol.
E-mail: kisly.a@mail.ru
TYPE: Article
DOI: 10.29039/2413-1695-2024-10-4-63-74
PAGES: from 63 to 74
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: gender symbolism, archaeology, myths, art, economics, demography.
ABSTRACT (ENGLISH): The article pays attention to the interpretation of cultural samples (visual, ancient myths, literature, etc.), which reflect the special position and status of the sexes. Demographic, economic, and archaeological sources were used. The author also touches on the issues of theoretical insufficiency of modern sociology and certain concepts of archaeology.
Половая (половозрастная) стратификация общества – одна из актуальнейших культурологических тем в исследовании феномена человеческой культуры. Особую остроту определяют два момента. Во-первых, обращаясь к половозрастной стратификации (в частности, к разделению жизнеобеспечивающих функций, труда) мы находим доступные для исследования знаковые точки трансформаций от природы к социуму, а во-вторых, гендерная тематика остается одной из культурологически актуальнейших, несмотря на некоторое угасание интереса к ней. При этом, автор полагает, что угасание интереса достаточно временное, ибо само по себе гендерное равенство постепенно приводит к крушению нынешнего достаточно неустойчивого и плохо поддерживаемого, равновесия «природа-человек», к исчезновению смысла воспроизведения жизни [1, с. 174–175]. Хотя о последнем есть и более обнадеживающее мнение, выраженное концептом «sustainable development». Сам термин (введен WCED, Всемирной комиссией по окружающей среде 1987 году) обозначает полагаемую возможность прогресса, т.е. это все же лишь модель, при которой нынешние поколения вероятностно не повредят удовлетворению жизненных потребностей будущих поколений. Однако такое в принципе невозможно, ибо в этом мире ничего нет, что не имело бы окончания, а сама история антропогенеза ярко показывает сколько человекоподобных было уничтожено ради достижения условного «прогресса» одним видом. Человек изначально в своей сущности противостоит природному разнообразию и естественным трансформациям natura creatriks, природы самовоспроизводящейся. Возьмем для анализа несколько вполне случайных картин, созданных в процессе развития культуры с древнейших времен, дабы выявить уникальные трансформации полового символизма. При этом важно, что такие примеры не есть эпатаж или марги- 64 Культурология Кислый А. Е. нальность, они созданы как бы «нечаянно» в общем течении воспроизведения жизни (культуры). Сначала общими штрихами, используя новые достижения «исторической» социологии1, попытаемся проследить некоторые инверсионные исторические трансформации полового символизма. Мы будем говорить именно о символизме потому, что такой ракурс источников нам будет доступен благодаря археологическим находкам, главным образом, по истории обществ эпохи бронзы, как переходного периода во многих областях ойкумены от первобытности к цивилизации. Первобытная половозрастная стратификация общества находила отражение практически во всем. Подобно тому, как у всего рода был свой бог-тотем, так и некоторые первобытные коллективы имели отдельные тотемы для мужчин и женщин. Если у мужчин тотем – летающая мышь, то у женщин – птица козодой и т.п. Некоторые исследователи (В. Шмидт) считают, и, кажется, имеют на то основание, что половой тотемизм – древнейший в человеческом обществе [2, с. 52). Этнографами зафиксированы отдельные мужской и женский языки в одном и том же племени. С точки зрения теоретической демографии, отметим, что мужской и женский мир (жизнедеятельность) не могли не проявляться как первобытное мужское и первобытное женское население, составляя одно народонаселение (В. С. Стешенко, А. Е. Кислый) [3, c. 37–38, 42–43]. Однако, с формированием человеческой культуры действие социальных механизмов воспроизводства жизни потребовали «противоестественного» (с нашей современной точки зрения) деления/состояния социума. К примеру, с переходом к воспроизводящему хозяйству общая продолжительность жизни в большей части ойкумены не растет, а падает [3, с. 143–146; 4, c. 77–78]. Демосоциологическое объяснение этому состоит в том, что в новых условиях требовалась большая численность мужчин, смертность женщин закономерно растет2 . Соответственно растет родовая нагрузка на оставшееся женское население, однако, учтем, одна женщина даже при общей высокой детской смертности могла «заменить» нескольких. Из числа родившихся вновь достигало зрелого возраста больше мальчиков и значительно меньше девочек. Ф. Энгельс с присущей ему прозорливостью, еще не зная новейших (современных нам) фактов о падении продолжительности жизни и «искривлениях» в соотношении численности полов, по этому поводу напишет: «…теперь женщины стали редки, и их приходилось искать» [5, с. 52, 61]. Далее, рыночные отношения фактически спасли женский пол: женщин стало растить выгодно, женщина стала покупаться. Однако социальное искривление гендера в этом случае состоит не в наступлении патриархата. Маскулинизация означала, сделаем акцент на этом, неприродную эксплуатацию именно мужской части населения в сложных условиях перехода к производящему хозяйству. И здесь как раз появляется культурный смысл вариаций, скрытых или явных (иногда маргинальных или на уровне суггестии), проявлений феминизации. В истории известны случаи, когда даже в патриархальном обществе женщины приобретали особый статус. Мы здесь не имеем в виду амазонок или подобные общества. Про1 Заметим, автор считает, что социология не может не быть «не исторической», ибо познание лишь современного общества (чаще всего фрагментарное), а не закономерностей исторических трансформаций культуры, приводит к превращению социологии в прикладную науку. 2 Важно учесть, есть этому факту и чисто демографическое, статистическое объяснение [3, c. 144–146]. 65 Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Философия. Культурология. Политология. 2024. Т. 10, № 4. сто в особых условиях роль женщины могла варьироваться, возрастать. Вспомним русские былины о Василисе Микулишне – воине и проч. [6, с. 556]. Отметим, в современных гендерных исследованиях большинство исторических закономерностей упускаются из виду, ибо так проще заниматься политикой «равенства» полов. Отсюда и уход от действительно гендерных проблем современности, понимание под гендером, главным образом, феминизма, акцептация на положении женщин, а не на проблемах гендерного состояния исторических и современных обществ. На самом деле наиболее значительной гендерной проблемой является соотношение в продолжительности жизни мужчин и женщин, ибо этот показатель итоговый для жизни как человека, так и демографически изучаемых социумов [1]. С древнейших времен в человеческой культуре осталось много символов гендерного противостояния. Как считает С. И. Кон «систему половой стратификации любого общества нельзя понять вне связи с его половым символизмом» [7, с. 177]. Литература на эту тему многочисленна. Обратимся к обобщающей схеме R. Needham (Right and Left. Chicago, 1973), переданной С. И. Коном в его цитируемой выше книге (табл. І). Прибавим только, что схема нами значительно расширена в концептуальном разрезе поздней первобытности, во многих культурах мужское ассоциируется также с верховной властью, небом, солнцем, конем; а женское – с властью дома, землею, родовой деятельностью, влагой-плодородием, змеей-змеем, и др. Половой символизм, иерархизация полов в первобытном искусстве наблюдается еще с верхнего палеолита и находит отражение в знаках женских и мужских [7, с. 182–183]. Анализ верхнепалеолитического искусства показывает (А. Леруа-Гуран, А. Ламинг-Емперер, Б. А. Фролов и др.), что женские изображения или символы встречаются чаще мужских, левое — чаще правого, а чужое, враждебное чаще, чем свое. Однако, для нашей темы наиболее четкая символика и ее трансформации прослеживаются на этапе развитых и поздних первобытных патриархальных отношений. Таким образом, признаки полового символизма достаточно четкие и многочисленны в культурах энеолита-бронзы. В целом, они свидетельствуют о нарастании маскулинизации культуры. Так с течением веков в последовательно сменяющихся культурах степной зоны от Волги-Урала до Причерноморья IV – II тыс. до н.э. – ямной, катакамбной и срубной (названия культур условные, ряд культур упущены) более ярким становится разделение мужских и женских захоронений по секторам курганов. Выделение группы мужских захоронений в центре кургана наиболее будет характерно из трех названных культур для срубной. Археологи С. Ж. Пустовалов и Л. А. Черных показали на многочисленных материалах катакомбной культуры дифференцирующее значение таких признаков, как уложение левой руки в женских захоронениях на грудь, а правой руки в мужских захоронениях на поясе [8, с. 139]. Первое, по-видимому, имело ритуальное значение (жест плодородия?), а в случае с мужчинами заключение руки на поясе, безусловно, было связано с ношением оружия, символов власти, и тому подобное. Интересно, какие функции могла выполнять женщина, где преобладало действие левой рукой? У многих первобытных народов левая рука была ведущей при выполнения ритуальных обрядов. Обычай был связан с семантическими параллелями: левое-дурное- 66 Культурология Кислый А. Е. невидимое-тайное-феменинное. В африканском племени мэру шамана характеризует связь с признаком «женский» и ритуальное значение имеет его левая рука, ее никто на должен видеть [9, с. 110]. Из латыни «sinistrum» – левое, глупое. Молдавский язык сохранил еще одно палеозначение этого слова – ужасное. Связь с признаком «левое» была характерной и для римских авгуров, которые в своих гаданиях считали левую сторону благоприятной. Учтем, что население ямной, катакомбной и срубной культур очень редко использовали реалистические изображение, поэтому обратимся к отдельным знакам или орнаментам этих культур. С половым символизмом прямо или опосредствовано надо также связать орнаментальные символы на глиняной, вылепленной от руки без гончарного круга посуде ямной, катакомбной, срубной культур. Существуют определенные представления о древней символике знаков, которые встречаются на такой посуде. Известно, что треугольник символизирует в разных мифологических системах, в том числе и в Северопричерноморском регионе плодоносную силу земли, рождение, воду, землю, поле. Знак связан с земледельческим культом. Треугольник вершиной книзу – «женский принцип, вода, силы подземного царства», что в изобразительной передаче может иметь вид зигзага, змеи [10, с. 14; 11, с. 272]. Все это мир фемининных культур. 67 Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Философия. Культурология. Политология. 2024. Т. 10, № 4. Крест (прямой или косой, свастика), круг – солярные, небесные символы. Крест – знак, который соотносится с плодородием, фаллосом, «активным мужским началом» [12, с. 12–13]. В индоиранской культурно-исторической традиции с солнцем отождествляется конь, что зафиксировано в письменных источниках [13, с. 87–88]. Солярный знак мог ассоциироваться с конем, колесницей, колесом, с миром маскулинным. В орнаментах посуды ямной культуры одной из наиболее характерных фигур выступает треугольник вершиной книзу или зигзаг под венцом. Солярные символы очень нечасты. Они более распространены на следующем этапе – на керамике катакомбной культуры (круг, концентрический круг, изредка крестовидные знаки). Эти символы относительно широко присутствуют в композициях с треугольниками, сдвоенными треугольниками (ромбами), отсутствующими на предыдущем этапе. Далее, керамика срубной культуры дает последующие примеры развитию солярной символики – разновидности прямого и косого креста, крест в кругу, крючковидный и Т-видный на концах крест. Большинство солярных символов появляются в эпоху бронзы в такой передаче, в которой они потом в период раннего железного века, украсят сбрую киммерийских коней. Особый для нас интерес представляет соединение древним художником на лепных сосудах разной по значению символики. Так на горшках срубной культуры (рис. 1, 1–6) композиционное расположение зигзагов (змеи, вода – femeninum) и коней (maskulinum) перекликается с изображением зигзагов-треугольников (femeninum) и солярных знаков (maskulinum). Композиции четко разделяются на две части: верхняя зона – изображение только змей или треугольников-зигзагов, а ниже – зона противоположной символики – солярной, или же зона борьбы двух сил. Последнее на уникальном сосуде (рис. 2) с пиктограммой из Полянок (Поволжье) подчеркивается перевернутыми (поборенными3 , мертвыми, согласно пиктографической символике) фигурами коней и «разваливаюшимися» крестами (или в переплетении с зигзагами) на других горшках (рис. 1, 7–9). Выделение подобных деталей сюжета на разной посуде срубной культуры свидетельствует о постоянстве сюжета (рис. 1) и достаточно сложных представлениях людей того времени, в которых переплетались космогонические, мифологические, дидактичные. Причем, идеологические представления развивались вслед за изменениями демоэкономического состояния общества. Искусство энеолита-раннего железного века опосредствованно дает возможность обнаружить динамику социальных отношений в сторону последующей их маскулинизации. мотивы, помогавшие воспроизведению жизни первобытных сообществ. Символизм культуры исключительно информативно, сообразно синкретическим традициям передает реалии социальной, половой стратификации, наличие в обществе определяющих бинарных сил. Отсутствие на глиняной посуде ямной культуры ярких бинарных, оппозиционных сюжетов не свидетельствует, что общество того времени было свободно от кризиса межполовых отношений. Во-первых, новое мировоззрение, которое отображало 3 Аналогия из древнерусских былин: «Стали змееныши Бурушке ноги обвивать… Бурушка скакать не может, на колени падает…» [14, с. 43]. 68 Культурология Кислый А. Е. демоэкономическую ситуацию III–II тыс. до н.э. еще складывалось. Во-вторых, керамика относится к вещам домашнего обихода, к наиболее консервативной части общественной жизни, где господствующее положение надолго закрепилось за женщиной. На предметах, которые использовались в сфере меньшего влияния женщины, даже во времена ямной культуры находим солярные символы. Примерами могут быть стелы с крестовидными знаками, бляхи пуансонного орнамента [20, с. 24, 29, 145]. Благодаря исключительно тщательному исследованию археологических памятников Северного Причерноморья мы имеем возможность констатировать, что на этих территориях именно эпоха бронзы и особенно период срубной культуры были временами крайнего напряжения демоэкономического развития. С переходом к цивилизации (в Северном Причерноморье этот этап приблизительно совпадает с расцветом раннего железного века) половозрастной символизм теряет значения почти основного, всеобъемлющего в обществе. На это время (античность) приходится и рост средней продолжительности жизни населения. 69 Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Философия. Культурология. Политология. 2024. Т. 10, № 4. Таким образом, первобытные культуры разделяли людей по признаку пола с момента рождения, мир мужчин и женщин существовал будто бы параллельно друг другу. Разница в средней продолжительности жизни женщин и мужчин показывает, насколько разными могли быть эти миры. По нашему мнению, это был один из самых противоречивых этапов в истории, когда человеку угрожала катастрофа. Этнографические данные, в частности собранные Н. Н. Миклухо-Маклаем в среде «закрытых» островных коллективов, показывают, как уменьшение численности женщин становилось именно катастрофическим [21, с. 17]. Сначала миграции, занятие чужих территорий и женщин, а затем переход от половозрастного расслоения общества к классовому позволило продолжить воспроизводство жизни как в узком, так и в широком ее понимании. Когда археологи причинами первобытных миграций, крушений культур называют просто природные катаклизмы (чаще всего), абсолютно не зная ни демографических, ни социологических закономерностей трансформаций человеческой культуры, происходит абсолютный отказ от системологии наук, культуры научного познания, заложенных наиболее четко К. Марксом и Ф. Энгельсом. Последние ввели в социологию диалектику трансформаций с древнейших времен, ныне социология стала линейной, лишенной диалектики наукой о том, как хорошо мы все устроили. Природные же катаклизмы не могли лишь уничтожать культуру, в большинстве случаев они стимулировали т.н. «развитие», а воображаемая сбалансированность в системе «природа-социум» наоборот приводила к стагнациям [3, с. 237–244, 299]. Теперь еще раз обратимся к сюжету на сосуде из Полянок. Срубная культура Поволжья, откуда происходит данный сосуд, отличается в сторону присутствия в ней пусть немногих, но ярких реалистических изображений, например, идущего обнаженного мужчины. По стилю это изображение предвосхитило примерно на столетие античный принцип хиазма (др.-греч. χιασμός), т.е. умение при изображении 70 Культурология Кислый А. Е. передавать гармонию пластического движения в пространстве в трёх измерениях [22]. Представляется, что «полянская» композиция здесь не случайна. На ней передана не просто традиционная для первобытности дихотомия «maskulinum-femeninum», а скрытое или даже явное oppositus, в котором неожиданно для этого времени женское (в данном случае, хтоническое, змеиное) берет верх и даже частично побеждает. Так лошади оказываются перевернутыми под змеями, а на иных сосудах (рис. 1, 3–9) крестообразные и свастические знаки изображены под змеями-зигзагами, или оккупированы ими. Но полянский рисунок имеет и пространственное решение. Центральная его часть – яркая передача неоднозначно решаемой художником борьбы лошадей и змей, а «задник» – вереница змей-зигзагов, предающих образ Земли с ее горами и долами, засеянными зерном (ниспадающие точки между верхним зигзагом и центральным изображением). Наконец, о древнем художнике, создавшем такое мистическое панно-рассказ в глине. Конечно, это была женщина. Горшки лепили (керамика лепная) женщины. А еще, она была статусом выше многих в своей общине, была во многом независимой, что и позволило ей усомниться в абсолюте мужской власти-победы. Вероятно, еще молодая, сильная натура под отцовским покровительством. Возможно, из рода «ведающих», знахарка или женщина-воин? Однако не это важно. Она смогла передать инверсивную мифологему времени, чуть-чуть приоткрыв сосуд своих знаний, что и дошло до нас. Далее, в условиях классовых отношений старые сюжеты приобретали новый смысл, и старые тенденции иногда проявляются в более свободном даже неожиданном ракурсе. Известно, что в Древней Греции, (отметим, больше данных про Афины) и в Древнем Риме женщины были значительно принижены и ограничены в правах. При этом в Риме положение матроны было сравнительно высоким. Но парадоксально, что античная мифология, литература дают примеры высокого статуса женских персонажей. Они могли соперничать с мужчинами и побеждать, в том числе устраивая различные козни, их ролевые функции достаточно разнообразны – высокопочитаемая богиня плодородия, мудрая женщина-воительница, служительницы культа, которым уступали дорогу даже патриции. И все же «порабощение женщины неизбежно влечет за собой рождение рабских душ и у мужчин» [23, с. 371].4 Мифы, религия как бы компенсаторно исправляли закрытое в своеобразный «сосуд Пандоры» антифеминистское сознание жителей Греции и Рима. Конечно, эффект приоткрытия такого «сосуда Пандоры» проявлялся и в положении просвещенных женщин высшего уровня, статусных гетер, и в Риме в разрешении женщинам иметь свои клубы, где могли обсуждаться политические дела, правда, не вынося решения далее стен заведения, в праздновании матроналий и проч. Напомним, Пандора – первая женщина («Всем Одаренная»), созданная Зевсом в наказание смертным. Однако, наиболее парадоксальная инверсия слегка приоткрытого «сосуда Пандоры» 4 В цитируемом романе Ивана Ефремова в данном пассаже Таис сравнивает в споре разные по уровню угнетения женщин цивилизации-страны. Ее оппонент Лисипп приводит (что уместно для упоминания и в нашем дискурсе) «некоторые имена Кибелы, Великой женской богини…». Поскольку аналогичных примеров может быть множество, ограничимся наиболее яркой, немного выхваченной из контекста цитатой. 71 Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Философия. Культурология. Политология. 2024. Т. 10, № 4. с наличием уже известных нам символов – женское-мужское, конь-змееподобный персонаж, находим в картине итальянского художника Паоло Уччелло (1397–1475) «Битва святого Георгия с драконом», т.е. это эпизод из жития святого, в христианстве «Чудо Георгия о змие». Картина, как и все театрально-фантастические творчество художника, неоднократно привлекала внимание, его творчество высоко ценили сюрреалисты, но мало кто заметил сквозящую трансформацию темы – ни искусствоведы, ни историки гендерных отношений средневековья, – свершающееся здесь чудо вовсе не заслуга св. Георгия. Уччелло создает свой миф с тонкими линиями иного повествования. В центре картины черное поле, восходящее к небу и соединяющее наиболее значимые по смыслу и размеру две фигуры – это белый Конь и темный Дракон. Далее – величественная Дама и, как бы пребывающий на втором плане, Рыцарь. Хтоническая черная Пещера и небо с черной Воронкой замыкают символический ряд и сценографию второго плана. На самом заднике декорации – зигзаг, линия гор, сублимация femeninum. Фактически то, поданное более ярко женщиной на сосуде из Полянок. Кажется, мы наблюдаем приближающееся поражение Дракона, однако это лишь дань мифу о Георгии Победоносце. Наиболее сюрреалистичное изображение картины – фантастическая небесная безысходная Воронка на черном фоне. Она композиционно алогичная пещере дракона, и ей противостоит. Но, если пещера – естественное обиталище Дракона, то воронка с ее призрачными пузырями имеет прямое отношение к Рыцарю, его жизни. Изображенная на самом дальнем плане на небе облако-птица, летит от Рыцаря к пещере, в преисподнюю, а над его головой – убывающая луна. Из всех персонажей и символов наиболее устойчива фигура Прекрасной Дамы. Она статуарна и выдвинута на авансцену более всех персонажей. Ближе к Дракону, а не к Рыцарю. Более того, она им управляет – вывела из пещеры и держит на поводке. Дама ближе к Дракону как символически, так и демоэкономически. Ведь ее независимость (прошлое свободное воспроизведение жизни) связана с хтоническим миром пещеры и змеиной природой. Нужна ли ей, ее сущности победа рыцаря? В биографии художника есть несколько любопытных моментов, позволивших ему столь четко чувствовать инверсию полового символизма, передать свои ощущения в живописи. Супруга Уччелло болела, их дочь Антония, поздний ребенок, была необыкновенной девочкой. Талантлива, привязанная к отцу и духовно, и помощью ему в мастерской, она стала монахиней-кармелиткой, первой известной в Италии художницей. Картина «Битва святого Георгия с драконом» написана примерно после четырех лет от её рождения, и Прекрасная Дама – это его необыкновенная дочь, вернее образ её будущего, где есть Дракон, пещера-монастырь и не нужен Рыцарь. Таким образом, обратившись к культуре полового символизма и находя необычные ее ракурсы в прочтении археологических фактов, данных демоэкономики, в произведениях искусства, видим возможность своеобразного понимания патриархата, маскулинности, и феменинности. Демоэкономика ранних этапов производящего хозяйства с учетом новых данных не прочитывается как необыкновенный прогресс. Вместе с кризисом переходного периода (в археологии – «кризис мезолитического хозяйства», а затем не 72 Культурология Кислый А. Е. совсем пока в науке понятные «кризисы бронзового века») приходит необходимость и потребность социального искривления природы. Приоткрывается сосуд Всем Одаренной, т.е. Пандоры: так вместе с огнем Прометея человечество получает проблемы и лишения. Мудрость древнего мифа вопреки прогрессистским построениям ученыхсоциологов здесь очевидна. Патриархат стал затягивающей воронкой безысходности для большей части столь востребованного мужского потомства, женская часть общества, пусть уменьшенная в численности потребностями культуры, в большей мере могла по-прежнему выполнять свои чисто природные функции воспроизведения непосредственной жизни. И еще меньшая часть женского потомства могла статусно преодолеть зависимость времени.
References
1.Кислий О. Проблеми гендерних досліджень в демографії та суміжних
дисциплінах // Демографічні дослідження. Вип. 22. 2000. С. 162–176.
Kislij O. Problemi gendernih doslіdzhen’ v demografії ta sumіzhnih disciplіnah //Demografіchnі doslіdzhennja. Vip. 22. 2000. S. 162-176.
2. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М.: Изд-во полит. лит., 1965.
Tokarev S.A. Religija v istorii narodov mira. M.: Izd-vo polit. lit., 1965.
3. Кислый А. Система начал, трансформаций и завершения истории. Аннигиляция человека, истории, культуры. Киев: Скиф, 2013.
Kislyj A. Sistema nachal, transformacij i zavershenija istorii. Annigiljacija cheloveka, istorii, kul’tury. Kiev: Skif, 2013.
4. Acsadi G., Nemeskeri J. History of Human Life Span and Mortality. Budapest:
Akademia Kiado, 1970.
Acsadi G., Nemeskeri J. History of Human Life Span and Mortality. Budapest:
Akademia Kiado, 1970.
5. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В
связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М.: Политиздат, 1980.
Jengel’s F. Proishozhdenie sem’i, chastnoj sobstvennosti i gosudarstva. V svjazi s issledovanijami L’juisa G. Morgana. M.: Politizdat, 1980.
6. Кислий О. Є. Матриархат // Енциклопедія історії України. Т.6. Київ: Наук.думка, 2009. С. 555–556.
Kislij O.Є., Matriarhat // Enciklopedіja іstorії Ukraїni. T.6. Kiїv: Nauk.dumka, 2009. S. 555-556.
7. Кон И. С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988.
Kon I.S. Rebenok i obshhestvo. M.: Nauka, 1988.
8. Пустовалов С. Ж., Черных Л. А. Опыт применения формализовано-статистических методов для половозрастного анализа погребений катакомбной культуры // Методологические и методические вопросы археологии. Сборник научных трудов. Киев: Наук. думка, 1982. С. 105-140.
Pustovalov S.Zh., Chernyh L.A. Opyt primenenija formalizovano-statisticheskih metodov dlja polovozrastnogo analiza pogrebenij katakombnoj kul’tury // Metodologicheskie i metodicheskie voprosy arheologii. Sbornik nauchnyh trudov. Kiev: Nauk.dumka, 1982. S. 105-140.
9. Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые семантические системы
(древний период). М.: Наука, 1965.
Ivanov V.V., Toporov V.N. Slavjanskie jazykovye semanticheskie sistemy (drevnij period). M.: Nauka, 1965.
10. Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками») // Советская Археология, 1965. №3. С. 14-28.
10. Ambroz A.K. Ravnnezemledel’cheskij kul’tovyj simvol (“romb s krjuchkami”) //Sovetskaja Arheologija, 1965. №3. S. 14-28.
11. Топоров В. Н Геометрические символы // Мифы народов мира. Т.1. М.: Изд-во Сов. энциклопед., 1991. С. 272-273.
11. Toporov V.N Geometricheskie simvoly // Mify narodov mira. T.1. M.: Izd-vo Sov. jencikloped., 1991. S. 272-273.
12. Топоров В. Н. Крест // Мифы народов мира. Т.2. М.: Изд-во Сов. энциклопед., 1992. С. 12-14.
Toporov V.N. Krest // Mify narodov mira. T.2. M.: Izd-vo Sov.jencikloped., 1992. S. 12-14.
13. Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве скифов и саков // Скифы и сарматы. Киев: Наук. думка, 1977. С. 87-108.
Kuz’mina E.E. Kon’ v religii i iskusstve skifov i sakov // Skify i sarmaty. Kiev: Nauk.dumka, 1977. S. 87-108.
14. Русские богатыри. Л.: Изд-во Мин. просвещения РСФСР, 1963.
Russkie bogatyri. L.: Izd-vo Min. prosveshhenija RSFSR, 1963.
15. Формозов А. А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.Философия. Культурология. Политология. 2024. Т. 10, № 4.
М.: Наука, 1980.
Formozov A.A. Pamjatniki pervobytnogo iskusstva na territorii SSSR. M.: Nauka, 1980.
16. Отрощенко В.В. Письмена племен срубной культуры // Studia Praehistorika. Sofia. T.9. 1988. C. 151-178.
Otroshhenko V.V. Pis’mena plemen srubnoj kul’tury // Studia Praehistorika. Sofia. T.9. 1988. C. 151-178.
17. Телегин Д.Я. Дослідження поселень епохи бронзи на Дінці // Археологічні пам’ятки УРСР. Т.ІV. 1956. С. 79-85.
Telegin D.Ja. Doslіdzhennja poselen’ epohi bronzi na Dіncі // Arheologіchnі pam’jatki URSR. T.ІV. 1956. S. 79-85.
18. Эварницкий Д.И. Дневники раскопок // Труды ХIII археологического съезда. М.: Моск. Имп. Арх. Общ-во. Т.1. 1907. С. 211-286.
Jevarnickij D.I. Dnevniki raskopok // Trudy HIII arheologicheskogo s#ezda. M.: Mosk.Imp. Arh. Obshh-vo. T.1. 1907. S. 211-286.
19. Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии 1903 г. // Труды ХIII археологического съезда. М.: Моск. Имп. Арх. Общ- во. Т.1.1907. С. 211-286.
Gorodcov V.A. Rezul’taty arheologicheskih issledovanij v Bahmutskom uezde
Ekaterinoslav-skoj gubernii 1903 g. // Trudy HIII arheologicheskogo s#ezda. M.: Mosk. Imp. Arh. Obshh- vo. T.1.1907. S. 211-286.
20. Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Довженко Н.Д. Ямная культурно–историческая область (Южнобугский вариант). Киев: Наук. Думка 1986.
Shaposhnikova O.G., Fomenko V.N., Dovzhenko N.D. Jamnaja kul’turno–istoricheskaja oblast’ (Juzhnobugskij variant). Kiev: Nauk. Dumka 1986.
21. Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. I. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
Mikluho-Maklaj N.N. Puteshestvija. T. I. M.-L.: Izd-vo AN SSSR,1941.
22. Кислый А.Е. Человек из Волчанки: одна находка и целый мир // Вестник Самарского университета. История. Педагогика. Филология. Т. 25. 2019. №1. С. 7–16.
Kislyj A.E. Chelovek iz Volchanki: odna nahodka i celyj mir // Vestnik Samarskogo universiteta. Istorija. Pedagogika. Filologija. T. 25. 2019. №1. S. 7-16.
23. Ефремов И. Таис Афинская: Исторический роман. Ашхабад: Китап, 1991.
Efremov Ivan. Tais Afinskaja: Istoricheskij roman. Ashhabad: Kitap, 1991.