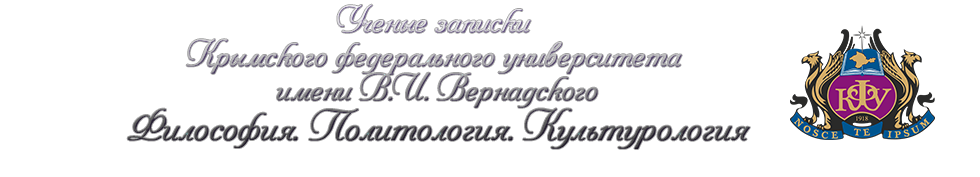ВОСХОЖДЕНИЕ К РОДУ: «ВОСПОМИНАНИЯ» П.А. ФЛОРЕНСКОГО В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ САМОПОЗНАНИЯ
ASCENT TO THE GENUS: “MEMOIRS” BY P.A. FLORENSKY AS A FORM OF PHILOSOPHICAL SELF-REFLECTION
JOURNAL: « PROCEEDINGS OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE/ PHILOSOPHY/ POLITICAL SCIENSE. CULTURAL STADIES»
Volume 11 (77), № 2, 2025
Publicationtext (PDF): Download
UDK: 111
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Smirnov Nikolay Alekseevich — Associate Professor of the Department of Social Philosophy at the Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications, Kazan Federal University, Kazan.
E-mail: nikolay.smirnov. 1992@mail.ru
TYPE: Article
DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-2-46-58
PAGES: from 46 to 58
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: Plato’s doctrine ofremembrance, Plato’s reception in Russian religious philosophy, phenomenology, phenomenological philosophy of V.V. Bibikhin, metaphysics of all-unity.
ABSTRACT (ENGLISH): The article examines one of the significant phenomena of the Russian religious Renaissance of the late XIX — early XX centuries — P.A. Florensky’s philosophy, which the author interprets in the context of the classical philosophical problem of self-knowledge. The enduring significance of Florensky’s work is justified by the fact that he continues and develops the main motives of the European metaphysical tradition in a situation where this requires new forms and ways of expression. It is assumed that one of these forms is the work carried out by Florensky in the book “To my children. Memories of the past days”, as a special experience of philosophical self-knowledge and recognition of oneself in the world. It is shown how, restoring and comprehending children’s impressions and the children’s view of the world itself, Florensky goes back to the origins of his own worldview, to the initial and direct experience of perceiving reality, which he himself correlates with the mystical experience of Plato and Goethe. It is argued that remembering here means climbing to the genus, to the ontological origins of existence. And as such, Florensky’s work may also clarify the phenomenological foundations of Plato’s doctrine of knowledge as memory. The methodological support of such an interpretation was the work of V.V. Bibikhin, devoted to the phenomenology of selfknowledge, primarily the work “Recognize Yourself’ and “Property”. The general theoretical basis of the author’s work is phenomenology and phenomenological hermeneutics.
Философия исторически и логически складывается вокруг проблемы самопознания, самоопределения, самости человека. Требование «познай самого себя», начертанное когда-то на фронтоне храма Аполлона в Дельфах — самое трудное для исполнения, невозможное, и вместе с тем, самое необходимое. Дело Сократа состояло во многом в мужестве увидеть, что мы не знаем ответа на этот вопрос, в деле вопрошания, в то время как афиняне были уверены в своих ответах настолько, что уже и не помнили, что когда-то это должно было быть вопросом. Им показалось, что он говорит о каких-то других богах, не о тех, которых почитают (которым принадлежат) они. Вопрос о богах, вопрос о том, кого нужно узнать при входе в храм (или узнать, что не знаешь) — вопрос о том, чему мы принадлежим. В диалоге «Федон» (фрагмент 62b) Сократ говорит о том, что человек — достояние (собственность) богов, и называет эту мысль «сокровенным учением» (то есть — своим, особым, тайным): «Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей… о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, -часть божественного достояния» [1, с. 352].
Вопрос о себе — вопрос о том, какого мы рода, чему мы принадлежим. Сократовское вопрошание развернётся со всей силой в платоновской философии, в искании видеть идеи, то есть роды, родовые формы вещей, которые не найти иначе, кроме как в своём роде, родить самому. Проблема себя самого, самоопределения, самопознания — это проблема родовой принадлежности. Русский философ В.В. Бибихин в работе «Узнай себя» истолковывает надпись на фронтоне дельфийского храма не как призыв к рефлексии, к самосознанию индивидуального эмпирического «я», а как требование узнать себя в чём-то большем, чем ты [2, с. 45]. В храме, под стражей богов, в собственности богов. Бибихин тематизирует принадлежность как особый, дорефлексивный опыт, лежащий в основании рефлексии и познания, но не замечаемый, остающийся на заднем плане душевной жизни. Своё, собственное, изначальное — это родное, род. То, что есть мы сами до того, как совершится первый акт самосознания (и каждый такой акт в каждом мгновении сознательной жизни). То, что определяет нас до того, как мы успели это заметить [3, с. 238-239].
Вопрос о принадлежности (о роде) в современном контексте стоит не менее остро, чем в эпоху классической греческой философии (наверное, эта острота всегда та же самая). Принадлежности, из которых соткана жизнь человека, всё более и более мельчают, размываются и теряют силу, так что мы уже не в силах отождествить себя ни с какой значительной реальностью (не говоря уже о вечном, бессмертном, бесконечном). Вместо платоновского искания самого главного, самого общего, восхождения от вещей к родам, и к роду родов (идее Блага, Единому), мы собираем, склеиваем себя из отдельных форм принадлежности, чем далее, тем более частных и мелких. Широта сократовского вопрошания о самом себе нам уже не доступна. И так же, как его сограждане афиняне, мы уже с трудом различаем, в чём, собственно, тут проблема, и всё менее способны поставить вопрос о самих себе, о том, какого мы рода. Тем важнее попытаться расслышать голоса тех, кто воссоздаёт в своём философствовании предельный размах сократовско-платоновской мысли. Одним из таких голосов был голос П.А. Флоренского. Русская метафизика XIX-XX вв. складывалась вокруг проблемы поиска абсолютного начала жизни, бытия и познания, из которого всё происходит и к которому всё возвращается, в конечном счёте. Абсолютное начало, в обращении к которому человек обретает самого себя, основание своих поступков и цель жизни. И в этом смысле русская религиозная метафизика XIX-XX вв. является прямым продолжением классической европейской философии, в которой центральным сюжетом было узнавание человеком самого себя в метафизической реальности. Человек и абсолютное начало жизни не существуют отдельно друг от друга, но представляют собой реальное историческое, событийное единство. Немецкий католический философ Хельмут Дам, в своих работах, посвященных исследованию русской философской традиции конца XIX — начала XX вв., утверждает, что русские философы, в своих исканиях, предвосхищают работу немецких феноменологов по обновлению классической философии [7, с. 45-55]. Среди современных отечественных философов такой точки зрения придерживается, например, В.В. Бибихин в работах «Язык философии», «История современной философии (единство философской мысли)» и «Новый ренессанс», где феномен русского религиозного ренессанса конца XIX — начала XX вв. истолковывается как момент общечеловеческого стремления к возрождению, внутри которого, в свою очередь — жажда сбыться, исполниться, осуществиться в качестве самого себя и стать собой [4, с. 350-351; 5, с. 246; 6, с. 265]. Близкой позиции придерживается в трудах по истории русской философии И.И. Евлампиев. Он понимает русскую философию как развитие метафизической линии европейского философствования, в основании которого лежит гностическое христианство, и которое достигает наиболее ясного философского выражения в учении об абсолютной субъективности в немецкой классической философии, и далее — в метафизике всеединства Ф.М. Достоевского, Вл.С. Соловьева, С.Л. Франка, Л.П. Карсавина. Более того, именно русская философия сохраняет этот ключевой мотив классической европейской философии [8, с. 15]. Характерно, что и Бибихин, и Евлампиев полагают, что в основании всякого философствования лежит мистический опыт — опыт узнавания себя в абсолютном, и главная проблема — поиск этого абсолютного начала. Так понимали задачи философии (в том числе собственной) и вообще задачи человеческой истории сами русские философы. Например, В.С. Соловьёв начинает «Чтения о Богочеловеч-стве» с проблемы утраты человеком связи с Абсолютом, и далее описывает человеческую жизнь и историю как движение, определяемое задачей восстановления этой связи [10, с. 5-6]. С.Л. Франк тематизирует «Непостижимое» как дорефлексивное основание всякого познавательного и практического опыта, непосредственное и невыразимое присутствие перед тайной бытия [11, с. 157].
Нам представляется, что в свете описанной проблемы ключевой работой П.А. Флоренского являются «Воспоминания прошлых дней». В отличие от более отвлеченных богословских и философских трудов, в «Воспоминаниях» главные темы мысли Флоренского даны в непосредственном опыте самоосмысления. Мысль Флоренского складывается вокруг интуиции реальности как живой и творческой целостности. Абсолютное начало всего сущего не существует исключительно в своей области, будучи отстраненным от мира и жизни. Напротив, всё самое значительное и существенное, именно поскольку оно значительно и существенно, не может оставаться только самим собой, только в себе, но осуществляется, является. Флоренский видит жизнь как пространство таких эпифаний, явлений неявленного, вторжений абсолютного в относительное, вечного во временное, божественного в человеческое. В конечном счете, сам человек и человеческая жизнь является таким проникновением трансцендентного в имманентное, и в этом смысле Флоренский называет своё философствование антроподицеей — оправданием человека [12, с. 99], как бы вытягиванием человека до онтологической полноты, утверждением человека в предельно широкой, метафизической перспективе [13, с. 27-28]. С этим связано постоянное внимание Флоренского к теме взаимоотношения тварного мира и Творца, к тайне боговоплощения и к образу Софии, являющемуся выражением парадоксального, антиномического различия-тождества божественного и человеческого в человеке (и в Боге) [14, с. 385]. Трансцендентное и имманентное (человек и Бог) не могут соединиться, но не могут и быть порознь, не тождественны, но и не различны, не едины, но и не раздельны. Человек представляет собой не здешнее, противоположное потустороннему, а скорее узел напряжения, натяжения между здешним и потусторонним, их невозможное и противоречивое, и в то же время необходимое стремление друг к другу. Поэтому ключевые темы мысли Флоренского описывают и являют собой эти антиномические линии, сплетенные в узел человеческой жизни. Такова темы слова и плоти, человеческого слова и божественного Слова, а также имени как онтологически концентрированного, существенного слова [15, с. 62]. Слово — то, что одновременно соединяет и разделяет миры, являя собой их предельное напряжение в сущности и разряжение в явь. В работе «Имяславие как философская предпосылка» Флоренский сравнивает слово с молнией [13, с. 292], являющейся мгновенно, неуловимой и поражающей, но в то же время освещающей, сияющей. Соединяющей небо и землю и подтверждающей границу между ними. Такова же тема иконы, ещё одна значимая тема Флоренского (работы «Обратная перспектива» и «Иконостас») [13, с. 48-49]. Осмысляя феномен обратной перспективы, Флоренский описывает икону как изображение неизмеримого, не вмещающегося в этот мир и потому нарушающего принципы линейной перспективы. Икона являет другую реальность, существующую по своим собственным законам. Через икону вечное врывается во временное, и действует и обращается к нам, напоминая нам о странной тяге несоединимых миров друг к другу. В «Воспоминаниях» этот основной мотив философствования Флоренского сам является как бы изнутри, в феноменологии первых встреч и пересечений.
Нерасторжимое органическое единство внутреннего и внешнего, видимого и невидимого в живом теле бытия. Просвечивание всеобщего сквозь единичное, значительного — сквозь мимолётное. Переплетение существенного и случайного, повторяющегося и необыкновенного в живом человеческом опыте. Эти темы облечены в «Воспоминаниях» не в богословские и абстрактно-философские понятия, а в описания непосредственных детских впечатлений, составляющих подлинные основания всего, что сложится затем в философскую концепцию. Так же, как и для С.Л. Франка, детский взгляд является для Флоренского уникальным опытом приобщенности человека тайне мира [11, с. 9]. Флоренский прослеживает живые начала самого себя — онтологический и биографический исток здесь совпадают, берут начало в нас самих, и могут быть увидены в Воспоминании — в особом способе вернуться к основаниям, ранее незамеченным и упущенным и пережить вновь становление собой. Обращаясь к детским впечатлениям и воспоминаниям, Флоренский заново открывает себя, и это происходит не за пределами текста, а в нём самом, в самих актах мысли-воспоминания. Можно сказать, что воспоминание здесь — не просто рефлексивный психологический акт, а онтологический сдвиг, мистическое путешествия души к самой себе. Обратимся к одному из первых таких воспоминаний-созерцаний, в котором детское впечатление являет нечто значительное и существенное, в записи от 1916.XI.18, в которой описывается, как маленький Павлик, убежавший от тети и мамы, увидел, как точильщик точит ножи: «Я подглядывал то, что смертному нельзя было видеть. Колёса Иезекиля? Огненные вихри Анаксимандра? Вечное возвращение, ноуменальный огонь… мне открывалась живая действенность таинственных сил естества, бёмовская первооснова, гётевские матери» [17, с. 32].
Опыт маленького мальчика здесь сопоставляется с мистическим опытом досократи-ков, Якоба Бёме, Гёте. Даже не сопоставляется, а совпадает. Это они и есть — искомые, существенные, первые явления, и чтобы увидеть их нужно обратиться от чтения книг к воспоминаниям, к встречам с самими явлениями, тогда, когда они являются такими, какие они есть. Детский взгляд понимается, в таком случае, как предельно точный, имеющий дело непосредственно с самими вещами. Это взгляд невооруженный, не имеющий подхода и инструмента, открытый самой реальности, такой, какая она есть. Ранние греческие философы имели дело с началами, с самым ранним, с тем, что является прежде всего, до того, как мы успели вооружиться методом и подходом [18, с. 159]. Эта ранняя мысль так похожа на детскую не потому, что она наивная и ещё чего-то не знает и не понимает, а потому что пытается заглянуть в раннее, в начала, туда, куда детский взгляд устремлен сам собой, органически, без специального усилия. От нас эти начала, и этот взгляд отделены недосягаемой мерой непосредственности. Взгляд ребёнка как бы прикован первыми вещами так, что неотделим от них самих. Раннее начало, первое начало — это род. То, без чего невозможен был бы сам смотрящий взгляд. Воспоминание — такая точка пути, в котором он возвращается к тому, без чего его самого не могло бы быть. Первые начала не могут быть даны прямо и непосредственно, как раннему взгляду. Раннее возможно для нас только в Воспоминании, в возвращении к истоку, который и так всегда вместе с нами, к началу, которое мы никогда по-настоящему не покидали. Непосредственное и опосредованное сплетены в узел: одного без другого не может быть. Раннее, первое — это не такое прошлое, которое лежит на ленте времени на несколько позиций раньше, чем то, что происходит «сейчас». Это такое прошлое, которое само и есть сейчас. «Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни» [17, с. 33].
Совпадение изгибов душевной жизни с сущностным порядком Вселенной составляет одновременно и форму, и содержание «Воспоминаний». Явленность тайны — то, что составляет центральный мотив «Воспоминаний», к которому Флоренский вновь и вновь возвращается, описывая разные впечатления. И в то же время сама форма «Воспоминаний» осуществляет эту связь, делает её явной. Флоренский воссоздаёт таинственное взаимопереплетение детской непосредственности и философского поиска, возможность восхождения (или спуска) от дискурсивной сложности к простоте первичных интуиций. В самом Воспоминании становится возможным «.просвечивание сквозь действительность иных миров, которое даётся осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определенно, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного закрепления, окончательного “остановись мгновение”» [17, с. 157-158].
«Иные миры», просвечивающие видимое нами в данном случае, — это и те миры, которые видел Флоренский ребёнком, и сам детский мир, таинственный и странный, просвечивающий в «Воспоминании». Как и в платоновской философии, Воспоминание у Флоренского является способом (само)познания, соединения миров, и восхождения к подлинному первоисточнику всего существующего. Что же открывается в этом восхождении? Сам человек, его собственная жизнь, обретающая тогда саму себя и возвращающаяся к себе, к своей собственной сути. Своя собственная жизнь оказывается в акте такого воспоминания родовой жизнью, жизнью как таковой. Эта родовая жизнь не принадлежит нам, но мы принадлежим ей, и в этой принадлежности сбываемся, становимся самими собой. Возвращаясь к тем первым интуициям, в широте которых мы видим всё, что видим, чувствуем и мыслим всё, что составляет содержание нашего мышления и чувства. Это та жизнь, которая принадлежит нам только тогда, когда мы принадлежим ей. Это можно было бы назвать философской генеалогией, выстраивающейся одновременно с обыкновенной генеалогией, как платоновская идея Блага, род родов, существует одновременно со всем существующим, и всему даёт сбыться самим собой. «Воспоминания» обращены к детям Флоренского и по замыслу должны знакомить их с историей семьи. Книгу сопровождают «генеалогические исследования», а также, в самих «Воспоминаниях», многочисленные замечания, касающиеся, скажем так, буквальной генеалогии, истории семьи и людей, причастных к ней. Но одновременно с этим он выстраивает философскую генеалогию, другое происхождение, являющееся, в конечном счёте, более значительным и существенным, чем буквальное. Помимо первого рождения и первого рода, человеку предстоит ещё другое рождение и открытие другого рода, иного рода. В явлениях, предстоящих детскому восприятию, в воспоминаниях узнать самого себя и своё самое дорогое, значительное, существенное. Философская генеалогия Флоренского — это феноменология первых, родовых, родных явлений, в обращении к которым философ обращается к себе и к своей сокровенной сути. Яркий пример такой феноменологии — воспоминание о море и сам образ моря: «Того моря, блаженного моря детства, уже не видать мне — разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, — в область ноуменов. Но этот ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю твёрже, чем знаю всё другое, узнанное впоследствии, что то моё познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, — ушло, а всё-таки навеки со мною» [17, с. 50].
Философские роды — это то, что ушло, но остаётся, присутствует всегда. То, без чего не может быть нас, но что остаётся для нас всегда таинственным. И узнаётся, опознаётся именно как непознаваемое. Ноуменальный мир — мир сокровенного. Того, что уходит, но в то же время навсегда остаётся с нами. Так уходит, что остаётся. Остаётся уходя (это его способ оставаться — через уход). Этот ноуменальный мир парадоксальным образом может быть явлен, увиден и описан, но не прямым схватывающим взглядом, а воспоминанием, одновременно смутным и ярким детским впечатлением, в котором человек одновременно впервые и вновь оказывается «лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью — из которой всё течёт и в которую всё возвращается» [17, с. 50].
То, из чего всё происходит, и к чему всё возвращается в конце концов, движение от конца к началу и от начала к концу, — онтологическая траектория, в той или иной форме часто воссоздающаяся в истории философии. Возвращение Флоренского к непосредственности детских впечатлений воссоздаёт ритм отношения человека с Вечностью, из которой мы выходим и к которой возвращаемся на жизненном и историческом пути. Начало здесь -сама вечность и мгновение встречи с нею. Происхождение, исток, которому всегда остаётся принадлежащим течение жизни, — это и тайна, и детство как особый опыт близости к ней. А возвращение к истоку — и воспоминание, и движение всего сущего, которое как бы воспроизводится, воссоздаётся воспоминанием. Вспомнить себя, опомниться, вернуться к себе — это значит вернуться к неотъемлемо присущему, к неотчуждаемому, к неутрачи-ваемому. Совпасть с самим собой. Поэтому главной философской темой «Воспоминаний» становится совпадение сущности и явления, видимого и невидимого, тайного и открытого. И эта же тема является главной темой жизни Флоренского: «Всю свою жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении» [17, с. 153].
«Думал» в данном случае, конечно, и тогда, когда совсем не знал ни одного из этих понятий, и не знал ни проблемы, ни места её в истории мысли. Философское воспоминание, воспоминание как способ думать, не просто возвращает нас в прошлое, а обращает к первичным слоям опыта. К тому, что мы вот сейчас, каждое мгновение испытываем, думаем и чувствуем, но не замечаем этого. К тому, о чём мы можем думать всю жизнь, но не знать этого. Не случайно Флоренский, пытаясь подобрать какие-то историко-философские ключи к собственному опыту, обращается к натурфилософии Гёте в качестве ближайшего источника. Таинственная связь явного и скрытого, волновавшая Флоренского, — это то, что должно оставаться неразгаданным, неразоблаченным. То, по отношению к чему не работает обыкновенный (научный, повседневный) порядок распаковывания явлений и вытаскивания из них сущности. Явление содержит сущность не так, как ящик скрывает своё содержимое. Явление являет сущность так, что оставляет её быть самой собою, то есть сущностью (скрытой, неявленной), и само остаётся явлением. И именно как скрытая сущность является самой собою, то есть сущностью. Это её способ являться — оставаться неявленной, скрытой. Тождество сущности и явления основывается на их радикальном различии. Явление нельзя распаковать до сущности, и не потому оно является, что должно быть непременно распаковано. Наглядно-пространственная схема отношений между скорлупой и орехом мешает нам понять странность связи сущности и явления. Нельзя очистить явление как скорлупу и вынуть из него орех. И в этом смысле детский взгляд важен именно потому, что он воспринимает явление так, что оставляет его быть тайной. Так, чтобы «познать мир именно как неведомый, не нарушая его тайны, но — подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности, т. е. как тайна» [17, с. 158].
Символ есть то, что являет таким образом, что оставляет скрытым. Покров не скрывает, а раскрывает утаенное. Сущность — не предмет, лежащий где-то за пределами нашего взгляда, а само отношение между видимым и невидимым, сама игра таящегося и открытого. Явленность таинственного во всей его таинственности предстаёт детскому взгляду. Взгляд взрослого не позволяет явлению быть сущностным: оно истолковывается тогда как «только явление», как поверхность, скрывающая от нас глубину и подлинность. А сущность высушивается до абстрактного закона, по отношению к которому все индивидуальные события будут только типическими случаями, подтверждающими его, до отвлеченного смысла, по отношению к которому все слова суть только выражения его. Обнаженная, разоблаченная сущность теряет сущностность, перестаёт быть существенной. Сущность перестаёт быть самой собой, когда мы предполагаем добраться до неё самой. Чтобы оставаться собой сущность должна быть одета в явление.
Центральная часть «Воспоминаний», наиболее концентрированная в философском смысле и наиболее важная для понимания общей логики философского воспоминания, называется «Особенное». Особенное перешагивает границу единичного/индивидуаль-ного/уникального и всеобщего/типичного/повторяющегося. Особенное — это одновременно и уникальное, и всеобщее. Особенное, особое, своеобразное, своё, — это сущностное, существенное, но в то же время не обобщенное и абстрактное, а данное во всей полноте в непосредственности настоящего. Обобщенное понятие — то, которое создаётся логической операцией абстрагирования на материале повторяющихся единичных фактов. Родовое как особенное — то, что уже есть в нас до всех логических операций и данности единичных фактов (сами операции и факты возможны, в свою очередь, только в просторе, открываемом нашей родовой принадлежностью). Поэтому Платон говорил о том, что они не придумываются, а припоминаются, как то, что мы уже знаем. Флоренский, описывая это особенное называет родовые сущности, вслед за Гёте, первоявле-нием: «…То, к чему я стремился, — было гётевским первоявлением, но, вероятно, в еще более онтологической плотности, по Платону. Это был Первоявлением Гёте называет прообраз множества единичных явлений, присутствующий, тем не менее, в каждом из них в полноте тождества, так, что это оно и есть, само явление. Первоявления даны нам так, что мы их не замечаем, но не потому, что они далеко от нас и присутствие их менее интенсивно, чем присутствие единичных вещей, а напротив, они так близко, и присутствие их так сильно и насыщено, что мы не замечаем их [19, с. 325; 20, с. 158]. Человеческий взгляд настроен видеть явления меньшей силы и на расстоянии, преобразуя их в мыслимые и наличные предметности. Первоявление — то, что мы всегда уже упустили и не заметили, использовав его как материал и сфабриковав на основании первоявления теоретические и эмпирические порядки. Перво-явление открыто детскому взгляду, для которого необыкновенное значительно само по себе, и не нуждается в подтверждении или опровержении смыслами и фактами. Флоренский вспоминает представления фокусников, виденные им в детстве, которые родители всегда считали нужным объяснять, вскрывая внутренние механизмы того, как это работает, и что «на самом деле» происходит, как бы вынимая сущность из явления, из того, что «только кажется». Это логика, которой руководствуется человек в науке и в повседневности: само существование явлений не имеет ценности, нужно знать принципы, по которым они существуют. Необыкновенное, вызывающее восторг или ужас, должно быть расколдовано; неповторимое — разоблачено и введено в круг повторяющихся и типичных фактов. Но эта логика не дотягивается до искомого, потому что сущность необыкновенного и удивительного состоит не в том, что мы имеем дело с фактом, никогда не наблюдаемым прежде. Восторг или ужас вызывает не то, чему ещё нет объяснения. Первоявление лежит вне плоскости объяснений и фактов. Оно удивительно по сути. Оно приковывает взгляд потому, что это часть природы самого взгляда [21, с. 21-22]. В видении чудесного проявляется сущность природы видимого вообще, первоявления видимости. Всякий феномен, видимый, слышимый, переживаемый нами — необыкновенен в своём первообразе, первоявлении. Удивительное составляет сущность феноменальности как таковой. Платоновский эйдос приковывает взгляд не потому, что представляет собой нечто невиданное прежде, а потому именно, что представляет собой то, что видим мы каждый раз, в каждом явлении. Необыкновенность и типичность — не свойства самих вещей, а способы видеть: «Я знал, как делается фокус, подобно тому, как я знал, почему происходит известное явление природы; но за всем тем, и в фокусе и в явлении природы, виделось мне нечто таинственное, которого не могли разрушить никакие уверения старших. Самая видимость чуда уже была чудесна» [17, с. 167].
Взгляд взрослого человека — это не взгляд, видящий всё таким, какое оно есть на самом деле, а взгляд, который больше не может (утратил способность, силу) видеть необыкновенность явления. Можно предположить, что феноменологически мы сначала утрачиваем эту способность, а уже потом, изнутри бессильного сознания, интерпретируем это собственное бессилие как взрослость и рассудочность. Явление утрачивает тогда для нас силу явленности (чудесности) как таковой и становится материалом для объяснения (а что ещё остаётся с ним делать, когда уже не можешь видеть «самой видимости чуда»). Единство первоявления распадается на фактические данности, и обобщенные абстрактные понятия.
Феноменологическая работа Флоренского в «Воспоминаниях» может прояснить платоновское воспоминание как восхождение, возвращение к роду. Род открывается, является в вещи, просвечивает сквозь вещь, не как абстрактная схема через её содержательное наполнение, а как сама вещь, как вещь в её самостности, существе, существенности. Отношение между вещью и родом — не иерархическое, а парадоксальное тождество-различие, как в опыте явленности тайны, таинственной явности в детском впечатлении. Все вещи, события, явления восходят к своим первообразам, принадлежат своим родовым сущностям, но не как внешним инстанциям, а как самим себе, как своей сокровенной глубине (или — недосягаемой высоте). Как тому, что они являют собой, и в то же время утаивают, скрывают. Воспоминание как движение навстречу самому себе — это возвращение в свой мир, в предельно широкий контекст самоотождествления и принадлежности. В котором нет «моего», но всё своё. Возвращение к истокам явлений, таинственно просвечивающим сквозь сами явления. Возвращение к самим основаниям жизни, которой мы сами уже принадлежим как самим себе, ещё прежде, чем успели это заметить. Такой мир, и вещи, и явления этого мира будут тогда своими, особыми для нас. Род, родовая сущность — это не абстрактное понятие, возникающее в результате обобщения единичных фактов, а особенное, своё, родное, неисчислимое в терминах общности / единичности, индивидуальности / типичности.
Философское воспоминание открывает первоявления, роды, начала вещей, но так, что оставляет их быть тайной, или даже (в версии Флоренского) возвращает им эту таинственность, утраченную в разоблачениях и разъяснениях. «Воспоминания» Флоренского и платоновские припоминания идей представляют собой попытку увидеть мир как бы впервые, в момент становления, рождения. В момент, в котором рождение и познание ещё являются одним, единым событием. Подлинное знание есть знание рода, а значит — само рождение.
- Платон. Диалоги / Платон. — Москва: Эксмо, 2015. 352 с.
Platon. Dialogy [Dialogues]. Moskow: Eksmo, 2015. 768 p. - Бибихин В.В. Узнай себя. — СПб.: Наука (Слово о сущем), 1998. 577 с.
Bibikhin V.V. Istoriya sovremennoi filosofii (edinstvo filosofskoi mysli) [History of modern philosophy (unity of philosophical thought)]. Saint-Petersburg: Vladimir Dal, 2014. — 398 p - Бибихин В.В. Собственность. Философия своего. — СПб.: Наука (Слово о сущем), 2012. 536 с. Bibikhin V.V. Novyi Renessans [New Renaissance]. Moskow.: Nauka, 1998. — 495 p.
- Бибихин В.В. Язык философии. — 3-е изд., стер. — СПб.: Наука (Слово о сущем), 2007. 389 с. Bibikhin V.V. Sobstvennost. Filosofiya svoego [Ownership. Philosophy of own]. Saint-Petersburg: Nauka, 2012. — 536 p.
- Бибихин В.В. История современной философии (единство философской мысли). — СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2014. 398 с.
Bibikhin V.V. Uznai sebya [Know yourself]. Saint-Petersburg: Nauka, 1998. — 577 p. - Бибихин В.В. Новый ренессанс. — М.: Прогресс-Традиция: Междунар. академ. издат комп. «Наука», 1998. 495 с.
Bibikhin V.V. Yazyk filisofii [Language of philosophy]. Saint-Petersburg: Nauka, 2007. — 389 p. - Dahm H. Solov’ev und Scheler: Ein Beitrag zur Geschichte der Phenomenologie. -Munchen; Salzburg, 1971. 468 S.
Dahm H. Solov’ev und Scheler: Ein Beitrag zur Geschichte der Phenomenologie. [Solov’ev and Scheler: A Contribution to the History of Phenomenology] Munchen; Salzburg, I971. 468 p. - Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Ч.1. — СПб.: Алетейя, 2000. 415 с.
Evlampiev I.I. Istoriya russkoi metafiziki v XIX-XX vv. Russkaya filosofiya v poiskah Absoluta. Ch.1 [History of Russian metaphysics in the XIX-XX centuries. Russian philosophy in search of the Absolute. P.1]. Saint-Petersburg: Aleteya, 2000. 415 p. - Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Ч.2. — СПб.: Алетейя, 2000. 413 с.
Evlampiev I.I. Istoriya russkoi metafiziki v XIX-XX vv. Russkaya filosofiya v poiskah Absoluta. Ch.2 [History of Russian metaphysics in the XIX-XX centuries. Russian philosophy in search of the Absolute. P.2]. Saint-Petersburg: Aleteya, 2000. 413 p. - Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве: [Философия] / В.Соловьев; Ред., вступ. ст. и коммент. С.П.Заикина. — СПб.: Азбука, 2000. 382 с.
Solovyev V.S. Chteniya o Bogochelovechestve [God-Man Readings]. Saint-Petersburg: Azbuka, 2000. 382 p. - Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. -М.: АСТ, 2007. 512 с.
Frank S.L. Nepostizhimoe. Ontologicheskoe vvedenie v filosofiyu religii [Incomprehensible. Ontological introduction to the philosophy of religion]. Moskow: AST, 2007. 512 p. - Флоренский П.А. Философия культа (опыт православной антроподицеи) / П. А. Флоренский; сост., авт. вст. ст. С. Г. Антоненко; Ин-т общественной мысли. — М.: РОССПЭН, 2010. 568 с. Florenski P.A. Sochineniya v 2-h t. T.1: Stolp I utverzhdenie istiny [Works in 2 vols. T.1: Pillar and statement of truth]. Moskow: Pravda, 1990, 496 p.
- Флоренский П.А. Сочинения в 2-х т. Т.2: У водоразделов мысли. / вступ. ст. С.С. Хоружего, журн. «Вопр. философии» и др. — М.: Правда, 1990. 446 с.
Florenski P.A. Sochineniya v 2-h t. T.2: U vodorazdelov mysli [At the watersheds of thought]. Moskow: Pravda, 1990, 446 p. - Флоренский П.А. Сочинения в 2-х т. Т.1: Столп и утверждение истины. / вступ. ст. С.С. Хоружего, журн. «Вопр. философии» и др. — М.: Правда, 1990. 496 с.
Florenski P.A. Detyam moim. Vospominaniya proshlyh dnei [To my children. Memories of the past days]. Moskow: Moskowskii rabochii, 1992. 560 p. - Флоренский П.А. Имена / П.А. Флоренский. — М.: Эксмо, 1998. 896 с.
Florenski P.A. Ikonastas [Iconostasis]. Moskow: AST, 2005. 203 p. - Флоренский П.А. Иконостас / Павел Флоренский. — М.: АСТ, 2005. 203 с.
Florenski P.A. Imena [Names]. Moskow: Eksmo, 1998. 896 p. - Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание / Сост.: игумен Андроник (Трубачёв), М.С. Трубачёва, Т.В. Флоренская, П.В. Флоренский. Предисл. и комм. игумена Андроника (Трубачёва). — М.: Моск. рабочий, 1992. 560 с.
Florenski P.A. Filosofiya kulta (opyt pravoslavnoi antropodicei) [Philosophy of worship (experience of Orthodox anthropodice)]. Moskow: ROSSPEN, 2010. 568 p. - Ахутин А.В. Античные начала философии / А.В. Ахутин. — СПб: Наука, 2007. 783 с.
Ahutin A.V. Antichnye nachala filosophii [Antique principles of philosophy]. Saint-Petersburg: Nauka, 2007. — 783 p. - Гёте И.В. Избранные философские произведения / И. В. Гете; Академия наук СССР, Институт философии; Авт. предислов. Г. А. Кирсанова. — М.: Наука, 1964. 520 с.
Gete I.V Izbrannye filosofskie proizvedeniya [Selected philosophical works]. Moskow: Nauka, 1964. 520 p. - Свасьян К.А. Иоганн Вольфганг Гете / К. А. Свасьян. — М.: Мысль, 1989. 191 с.
Svasyan K.A. logann Wolfgang Gete [Johann Wolfgang Goethe]. Moskow: Mysl, 1989. 191 p. - Свасьян К.А. Феноменологическое познание: Пропедевтика и критика / К. А. Свасьян; АН АрмССР, Ин-т философии и права. — Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1987. 198 с.
Svasyan K.A. Fenomenologicheskoe poznanie: propedevtika i kritika [Phenomenological cognition: Propaedeutics and criticism]. Erevan: ARMSSR AN publishing house, 1987. 198 p.