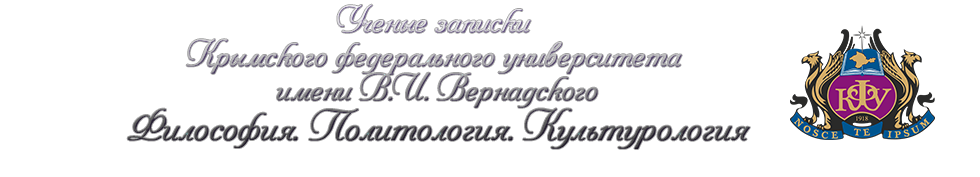ПОСТИСТИНА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СИМПТОМ И ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
POST-TRUTH AS A SOCIAL SYMPTOM AND INSTRUMENT FOR IDENTITY CONSTRUCTION
JOURNAL: « PROCEEDINGS OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE/ PHILOSOPHY/ POLITICAL SCIENSE. CULTURAL STADIES»
Volume 11 (77), № 2, 2025
Publicationtext (PDF): Download
UDK: 165.4+304.2
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Nefedev Sergey Nikolaevich — Candidate Sciences in Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol.
E-mail: sergnefsn@mail.ru
TYPE: Article
DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-2-31-45
PAGES: from 31 to 45
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: post-truth, discourse, identity, emotivism, factoid.
ABSTRACT (ENGLISH): The article investigates specific characteristics of the post-truth discourse, which in inherent modern social communication. Post-truth is considered as a cognitive distortion rooted in the structure of bourgeois social identity, characterizing the emotivist personality type and the socio-manipulative type of relations. The position is substantiated according to which the role of the ontological basis of the post-truth discourse is performed by a new type of information objects — «factoids». The specifics of their functioning in the information and communication space are described in categories of not binary, but three-valued logic, which assumes, in addition to truth and lies, a third mode — the unknown, uncertainty. The underdetermined epistemological status of the «factoid» does not indicate any of its inferiority compared to the fact, but is a specific property indicating the probabilistic nature of its ontology. It is argued that the post-truth interpretation of the ontological status of meaning as morally, ethically and epistemologically neutral legitimizes its use as a tool of post-truth politics. It is concluded that post-truth discourse is performative in nature. In this regard, it can be considered not only as a descriptive — specifically speculative-market way of representing reality, but also as: 1) a performative technology for the formation of augmented reality that produces «factoids», 2) a tool for the humanitarian-technological construction of social identity.
Понятие постправда/постистина одно из наиболее обсуждаемых в современной публицистике, междисциплинарных и социальных исследованиях. Констатировал появление феномена «постправды» как факта современной общественной жизни в 1992 году американский драматург Стив Тешич в статье «Правление лжи» для журнала The Nation. С помощью словосочетания «постистинный мир» (post-truth world) он определил ситуацию, в которой оказался американский народ, предпочтя самолюбие правде, выбрав отвечающие приемлемой корпоративной картине мира пропаганду и цензуру [1, с. 287-288]. В 2004 г. Ральф Киз (R. Keyes) охарактеризовал дискурс, преодолевающий дуализм правды и лжи, как ориентрованный на обогащение правды; сообщение большего, чем правда; смягчение правды; подачу улучшенной правды; представление правды в выгодной перспективе [2, р. 15-16].
Постправда как социальный симптом
Рассматривать «постправду» исключительно как специфический социально-психологический, масс-медийный или политический феномен в жизни современного общества уже явно недостаточно. Британский социальный эпистемолог Стив Фуллер в своей работе «Post-Truth. Knowledge as a Power Game» (2018) разработал социально-онтологический концепт «постистины» как истока и основания дискурса «постправды». В своем исследовании он сделал акцент не столько на инструментально-манипулятивных аспектах постправды, сколько на эмансипирующем и социотворческом потенциале постистины [3]. Анализ социально-коммуникативного феномена «постправды» во взаимосвязи с его онтологическими — «постистинностными» основаниями, позволяет открыть новую философскую перспективу в осмыслении мира, общества и человека, характере их взаимосвязи и взаимодействия.
Рассмотрим «ситуацию постправды» в современном обществе как комплексный феномен в его симптоматическом и инструментальном измерениях, а также попытаемся выяснить, какую роль в социальных практиках играет это явление.
Русский язык, в отличие от английского, позволяет аналитически и терминологически различить два измерения единого комплексного феномена «post-truth»: 1) «постправду» как социально-эпистемологический и 2) «постистину» как социально-онтологический феномены.
Первой в поле зрения профессионалов в сфере СМИ, массовых коммуникаций, политологов, специалистов по связям с общественностью попала «постправда». Филологический и социально-психологический анализ этого явления в 2005 году в работе «On bullshit» (в русском переводе 2008 г. «К вопросу о брехне») провел профессор философии в Йеле Гарри Г. Франкфурт. Им были рассмотрены присущие современному западному обществу философские основания мышления и действия, обязывающие людей фальшивить — искренне и убежденно лгать. Г. Франкфурт отмечает, что в мире возник мощный запрос на специфический вид лжи, безразличный к действительному положению дел [4]. Ли Макинтайр, в свою очередь, характеризует постправду не как предвзятое (biased — англ.), а как мотивированное (motivated — англ.) мышление [см. 5]. Таким образом, появляются основания рассматривать феномен «постправды» как самостоятельное, объективное, не тождественное лжи явление, порожденное в процессе социального развития, органично присущее определенному типу культуры и оказывающее специфическое воздействие на человеческую природу.
Постправда как когнитивное искажение, укорененное в структуре буржуазной социальной идентичности
В современной социальной теории и политической философии происходит вытеснение понятий социально-классовой и политической идеологий понятиями идентичности, идентификации, а политические процессы осмысливаются в терминах «борьбы за
признание» и «политик идентичности». Понятия «идентичность» и «идеология» можно рассматривать не только в качестве общественных форм сознания, но и как доступные для конструирования посредством гуманитарных технологий структуры «социального бессознательного» (терм. Э. Фромма). Американский психолог Дэвид Даннинг полагает, что когнитивные искажения связаны с базовыми элементами человеческой идентичности, самоидентификации [см. 6].
Согласно справедливому замечанию А. Макинтайра, «неверно отделять историю Я (идентичности, «социального характера» — С.Н.) и его ролей от истории языка, который специфицирует это Я и через который роли получают выражение» [7, с. 52]. А.И. Кольба предполагает, что «использование постправды в качестве средства формирования картины мира современного человека и идентичности больших и малых сообществ отражает длительный тренд, порожденный глубоким кризисом идентичности в разных его измерениях» [8, с. 417].
Социально-психологический характер запроса на постправду в перспективе социальной идентификации можно рассматривать как вызванное определенными социальными условиями «когнитивное искажение», поразившее общества делиберативных демократий. Таким образом ее рассматривает известный американский политолог Том Николс. Анализируя распространенные в современном американском обществе познавательные установки, он приходит к заключению, что современный массовый человек «уже прошел черту “неверно информированного”, а теперь катится в сторону “агрессивно заблуждающегося”. Люди не просто верят глупостям, они активно сопротивляются процессу познания и не хотят отказываться от своих ошибочных убеждений» [6]. Известная еще с античных времен подмена «эпистемы» (истины) «доксой» (мнением) усиливается либерально-демократическим, массово-коммуникативным характером современных обществ.
Антипросветительские установки индивидуализированных и фрагментированных обществ массовой коммуникации Т. Николс характеризует как антиавторитаристскую «новую Декларацию независимости», согласно которой незнание объявляется правом и достоинством человека, отвержение научных знаний и суждений экспертов приравнивается к отстаиванию своей независимости. Согласно его оценке, постправда — это не постмодернистское игровое безразличие к истине, а «враждебность» к иной точке зрения, убеждениям, отличным от своих собственных, «агрессивное вытеснение экспертных суждений или традиционных знаний и замена их твердым убеждением, что каждое мнение по любому вопросу так же хорошо, как любое другое» [6]. По мнению Т. Николса, «неприятие экспертного знания .. это не столько недоверие, вопрос или поиск альтернатив, сколько нарциссизм в сочетании с презрением к чужой компетентности, то есть своего рода попытка самоутверждения» [6]. Таким образом, восприятие постправды как новой нормы социальной коммуникации можно рассматривать как особого рода «политику идентичности».
Дискурс постправды представляет собой квинтессенцию буржуазной спекулятивно-рыночной репрезентации реальности. Ральф Киз справедливо отмечает, что «растущая нечестность связана не столько с упадком этики, сколько с социальным контекстом, не уделяющим достаточного внимания правдивости» [2, p. 17]. Постправдивость («новая искренность») — социально значимая манипулятивная форма лицемерия, идеологический инструмент гегемонии в сфере общественного сознания. Будучи укорененной в «приватной тайне» происхождения частной собственности (первоначального накопления капитала) и присвоения прибавочной стоимости, она эволюционирует в полуправду рекламы и маркетинговых стратегий как легализованных форм мошенничества, многообразных манипулятивных социально-технологических способов получения прибыли. Выявить социально-экономические и идеологические аспекты распространения постправды в капиталистических обществах, стать методологической основой комплексного анализа постправды как феномена рыночного общества позволяет формационный подход.
Постправда и эмотивизм
В обществе с антагонистическими противоречиями интересов социальных групп невозможно бесконфликтное изменение социальной позиции угнетаемых. Вместо реальной гуманизации социальных отношений в антропоцентрической парадигме свободы, равенства, братства, любви, осуществляется их симуляция. Дискурс постправдивости, выступая проявлением постистинностной онтологии социальных отношений, вместе с тем служит способом ее сокрытия от критической рефлексии и этической оценки.
Социальные условия формирования постправдивых коммуникативных установок тесно связаны с онтологическими трансформациями истины в постистину, эмотивист-скими трансформациями морали и человеческой идентичности. Р. Киз отмечает, что в ситуации противоречия поведения ценностям, современный человек более склонен переосмысливать ценности, чем менять свое поведение [2, р. 13]. Не случайно именно в развитом буржуазном обществе на рубеже XIX-XX вв. возникает аксиология, теоретически обосновывающая иерархизацию ценностей и тем самым закладывающая основы для преодоления бинарно-оппозиционной логики не только классической этики (добро/ зло; честь/бесчестие), но и социально-эпистемологической оппозиции правда/ложь. Р. Киз констатирует, что были «придуманы обоснования для фальсификации правды», что позволило теоретически и мировоззренчески легитимировать этические системы, в которых притворство считается приемлемым [2, p. 13].
Социально-эпистемологический подход к анализу социальной коммуникации, позволяющий установить ее связь с процессами идентификации и формирования манипулятивных типов социального характера в форме критики эмотивизма как мировоззренческой установки в своей работе «После добродетели» (1981 г.) использовал Аласдер Макинтайр [7, с. 19-52]. «Эмотивизм есть доктрина, согласно которой все оценочные суждения <…> есть ни что иное, как выражения предпочтения, установки или чувства», и как таковые «ни истинны, ни ложны», но «мы используем моральные суждения не только для того, чтобы выразить наши чувства и установки, но и для того, чтобы произвести такие воздействия на других» [7, с. 19]. А. Макинтайр особо отмечает коммуникативно-прагматическую трактовку эмотивизма, предложенную К.Л. Стивенсоном в 1945 г., согласно которой «предложение «Это хорошо» означает <…> «Я одобряю это — так что делай это»; при этом обеспечивается функция морального суждения (1) как средства выражения позиции говорящего, а также (2) функция морального суждения как средства влияния на позицию слушающего» [7, с. 20]. Теория значения в манипулятивных целях может подменяться теорией употребления, а возникающий в таком случае «конфликт значения и употребления выражался бы в том, что значение скрывало употребление и мы не могли бы сделать надежный вывод о том, что делает тот, кто произносит моральное суждение, просто слушая, что он говорит. Больше того, субъект сам мог бы оказаться среди тех, для кого употребление скрывается значением» [7, с. 22].
Манипулятивная сила эмотивизма заключается в подмене на уровне презентации корыстного личного интереса обезличенными ценностями (морально-этическими, культурными и прочими) и апелляции к ним как легитимизирующим основаниям предпочтений, выбора и действий. А. Макинтайр показывает, что практическое использование «общего тезиса эмотивизма, переинтерпретированного в теорию употребления», позволяет объяснить процесс «морального упадка», характеризующий социальную коммуникацию ХХ века [7, с. 28-29]. В итоге он приходит к выводу, что «эмотивизм стал частью нашей культуры» и теперь «мы живем в специфично эмотивистской культуре» [7, с. 33-34], особенность которой состоит в стирании различия между манипулятивными и неманипулятивными социальными отношениями [7, с. 36-38]. Показательно, что в социальной теории М. Вебера вопрос о целях отождествляется с вопросом о ценностях, а ценности создаются человеческими решениями [7, с. 39].
Эмотивизм становится процветающей моральной теорией лишь в ХХ веке [7, с. 22]. Постистина же как онтологически-когнитивная концепция и постправда как коммуникативно-прагматическая стратегия, зародившись в конце прошлого столетия, достигают своего расцвета в первой четверти XXI века. Значимость постистины состоит в скрывающей подмене иррационального рациональным (процедуре рационализации), частного — универсальным (оппортунизм как норма социальной коммуникации), выдача случайного за закономерное (в рамках концепции «контингентности»).
Контрфактический и смысловой аспекты политики постправды в конструировании идентичности
Механизм действия и способ легитимации постправды укоренены в эмотивистском принципе подмены фактических суждений либо оценочными, либо контрфактическими утверждениями. С.В. Тихонова отмечает, что «постправда как трансляция субъективности основана на репрезентации личного субъективного опыта познания мира, т. е. ее ядром является обычное знание, на платформе которого формируются личная история, личный опыт и личная правда, подменяющие объективные данные. <…> Через постправду люди и познают, и одновременно выражают себя, создают идентичности и вступают в коллективные действия» [9, с. 289]. В свою очередь, И.С. Семененко констатирует, что в условиях системного кризиса либеральной модели политического порядка «в международном политическом пространстве идет борьба за привлекательные смыслы и модели развития, принимающая формы “борьбы за идентичность”», поскольку в этих условиях становится актуальной возможность использования идентичности в качестве нематериального ресурса общественного развития, а «предотвращение конфликтов идентичностей становится ключевой проблемой практической политики государства в условиях растущего социокультурного многообразия современных обществ» [10, с. 9-14]. Подходы к разрешению социальных конфликтов и противоречий предлагается осуществлять посредством «выявления смыслов, которые могут служить надежными скрепами и стимулировать развитие», используя социально-мобилизационный потенциал гуманитарных технологий [10, с. 15]. И.С. Семененко отмечает, что конструирование «цивилизационных поворотов» «становится важной составляющей дискурсивной силы государств, стремящихся противостоять претендующему на универсальность “порядку, основанному на правилах”» [10, с. 15]. Характерный для модернистских обществ «идеологический» подход, заменяется конструкционистским гуманитарно-технологическим.
Современная культурфилософская (квази-культурологическая) цивилизационная парадигма предлагает методологическую альтернативу социальному (социологическому) подходу в анализе социальных и политических противоречий. Нетрудно заметить, что в рамках новой интерпретационной парадигмы социально-исторического познания происходит подмена конфликта реальных групповых интересов — социально-классовых, межэтнических, межконфессиональных, межгосударственных (в том числе и империалистических) — понятиями «конфликта интерпретаций» (П. Рикер), «конфликта цивилизаций» (С. Хантингтон), «конфликта идентичностей». Формируется представление о том, что объективные социально-экономические и политические противоречия могут быть сведены к культурно-ценностным и, соответственно, разрешены идеальным (ценностно-смысловым) образом, посредством гуманитарно-технологической реконструкции ценностно-смысловой сферы жизни общества. В целях преодоления указанных методологических ошибок в познании социальной реальности целесообразно обратиться к постметафизическим — не «фундаментально-онтологическим», а эмпирическим — подходам и способам анализа проблем.
Как отмечает О.Ю. Малинова, сторонники политики идентичности стремятся «сместить акценты со ставших традиционными для западной политики второй половины ХХ
в. проблем распределительной (экономической) справедливости на вопросы, связанные с символической (культурной) несправедливостью» [11, с. 85]. В качестве побудительных причин социального действия общественными науками начинают рассматриваться «не интересы и нормы, а идентичности и солидарность», что ведет к «критике идеи универсального актора», создает условия для замещения универсальной истины и соотносимой с ней правды партикуляристской и ангажированной постправдой [11, с. 86]. В такой социально-эпистемологической перспективе феномен «политкорректности» — новая версия левой идеологии, пришедшая на смену марксизму и либерализму, а также «культура отмены» (бойкот, игнорирование и элиминация значимых фрагментов социальной действительности) выступают конкретными формами политики постправды [11, с. 86].
С позиций акторно-сетевой теории, согласно Г. Харману, можно говорить о двух модусах существования политики: «политике истины» (truth politics) и «политике силы» (power politics). Политику идентичности (identity politics) можно рассматривать как левую версию «политики силы» в ее постмодернистской трактовке [12, с. 91]. В целом же, постправду можно рассматривать в качестве универсального инструмента различных (как левых, так и правых) версий «политики силы», важной составляющей гуманитарных технологий. Дискурс постправды либо прямо, либо косвенным образом способен оказывать влияние на формирование любых типов идентичности.
Фактоиды в сфере массовой коммуникации и дискурсе постправды
Распространение в сфере социальной коммуникации постправды служит симптомом «кризиса факта». Согласно У. Дэвису в настоящее время происходит цивилизационная трансформация общества фактов в общество данных, в результате которой складывается ситуация, в которой «можно жить в мире данных, но без фактов» [13]. Р.В. Жолудь отмечает, что данные «собираются автоматически, с помощью различных устройств и приложений, которые фиксируют поведение пользователей. Функция таких данных (big data) кардинально отличается от функций классических фактов. Если факт был средством доказывания в общественном диалоге, в поиске оптимального решения, то данные демонстрируют настроение аудитории, позволяют прогнозировать ее поведение, подстраиваться под ее вкусы и ожидания. Факт как свидетельство о реальности обесценивается для коммуникатора: зачем доказывать что-то, если можно просчитать предпочтения аудитории и предложить ей ту информацию, которая будет воспринята с большим доверием?» [14, с. 119].
В системе массовой коммуникации место факта занимает «фактоид», принимающий вид факта. Он становится онтологическим основанием дискурса постправды, содержательным компонентом «фейковых» сообщений в среде массовой коммуникации. «Фактоид — это любая информация (идея, теория, гипотеза, набор идей и т. д.), представленная 1. в форме истины, но 2. степень истинности которой не может быть подтверждена без дополнительной информации» [15]. Фактоид можно интерпретировать как факт в интенциональном смысле. Информационные процессы в среде электронной массовой коммуникации подобны информационным процессам, протекающим в сознании. Аналогичным образом, фактоид дан в восприятии непосредственным и до-рассу-дочным образом, в модусе вероятности.
Еще Р. Киз обратил внимание на то, что «эпоха постправды характеризуется существованием не только правды и лжи, но и третьей категории двусмысленных утверждений, которые одновременно являются и не совсем правдой, но в то же время и не дотягивают до лжи» [2, р. 14]. Вслед за этим, Т ДеМишель выдвигает предположение, что лучшие перспективы в понимании природы фактоида открывает не построенная на оппозиции «истина — ложь» бинарная логика, а трехзначная логика, предполагающая три равноправные измерения: «правда, ложь и неизвестность» [15]. Фактоид сохраняет аспект неопределенности, в условиях невозможности его проверки без дополнительной информации. Его можно представить, как «информационный объект» релевантный вероятностной (квантовой?) логике. В данном случае мы имеем дело с возвращением от гносеологической истины к публичной интерсубъективно достоверной «доксе», к неразличимости, отождествлению индивидуальных и коллективных представлений.
Распространенный в современной коммуникации способ представления информации — утверждение чего-либо в качестве факта, которое сопровождается пояснением, содержащим в себе модальные расширения: «но это неточно», либо «highly likely» («с высокой вероятностью», «скорее всего»). Можно предположить, что таков в целом специфичный способ существования информационных объектов в характерной для современной информационной цивилизации конвергентной цифровой медиасреде.
Формирование альтернативных реальностей, на основе «больших баз данных», по своему алгоритму напоминает структуру «гиперромана», разворачивающегося интерактивным и перформативным образом в траектории, отражающие интересы и ценностные предпочтения потребителя информации в соответствии с выбираемыми им «тегами».
Согласно Ю.В. Шатину, фактоиду как информационному объекту присущи следующие характерные особенности:
1. Альтернативность — принципиальная (потенциальная) открытость интерпретациям: «для того чтобы стать постправдой, событие должно содержать потенциал развития. При этом в ходе развертывания фабульного ядра в сюжетное целое оно должно сопровождаться альтернативными версиями, которые либо отрицают наличие самого факта, либо обеспечивают его противоположную интерпретацию» [16, с. 254].
2. Неопределенность — актуальная открытость интерпретациям, вовлекающая потребителя информации в процесс ее производства посредством сотворчества и вирусного распространения. «Самым важным элементом нарратива постправды оказывается незавершенность финала. Весь риторический эффект данного феномена мгновенно бы испарился, если бы событие однозначно всеми было воспринято как правда или как ложь. <.. .> Постправда возможна лишь как длящееся событие с неизбежным наращиванием фактов, истинность каждого из которых не может быть ни опровергнута, ни доказана. Постправда — это всегда риторическое пограничье нашего сознания, оставляющее окончательный выбор за интерпретантом» [16, с. 254].
Социально-конструирующая роль лидеров общественного мнения в ситуации постправды меняется. Она перестает носить социально-консолидирующий характер (как в идеологической, так и в делиберативно-консенсусной форме). Поскольку в ситуации постправды «невозможно создать медиапродукт, который бы переубедил сторонников противоположных версий», постольку «теперь оратор стремится не к присоединению несогласных с помощью изощренной аргументации, но, напротив, к максимальному расколу аудитории на альтернативные группы» [16, с. 255].
В ситуации постистины/постправды степень реалистичности альтернативных реальностей определяется не их фактичностью, а их о-смысленностью. Таким образом, политика постправды может осуществляться как посредством стратегии «контрфактических суждений», так и посредством реинтерпретации (пере-осмысления).
Основополагающую роль в гуманитарных технологиях, направленных на конструирование идентичностей играют понятия «культурных ценностей» и «смыслов». Отмечая, что в последнее время среди исследователей «тема смысла становится популярной без ясного осознания причины этого интереса», Л.А. Маркова формулирует вопрос: «Почему именно сейчас, обсуждавшееся и прежде многими философами понятие смысла стало таким востребованным и привлекается для решения многих современных проблем?» [17, с. 134]. Ответ она находит в такой характеристике смысла как «нейтральность»: «смысл нейтрален к честному и бесчестному в поведении человека, к успеху и неудаче, к истине и лжи. <…> Понятие смысла является в равной мере основанием таких противоположностей, как идеальное и материальное, субъект и объект, истинное и ложное» [17, с. 134]. Тот факт, что именно в современных социокультурных условиях «нейтральность смысла становится востребованной» [17, с. 138] не случаен. Постистинностная трактовка онтологического статуса смысла как морально-этически, объективно-реалистически и эпистемологически нейтрального, вынесенного «по ту сторону» дихотомий добра и зла, реального и симулятивного, истинного и ложного, легитимирует его в качестве инструмента политики постправды.
Перформативные аспекты постистинностного дискурса
В.И. Дудина отмечает, что перформативный поворот в социальной теории и методологии социальных наук возникает «как реакция на понимание недостаточности трактовки социальной реальности как текста, символических структур или мира смыслов», он предполагает, что «научное знание не только репрезентирует реальность, но участвует в производстве (или исполнении) реальности» [18, с. 17]. В рамках аналитической философии была выделена группа перформативных высказываний, «которые нельзя оценивать по критерию “истинно — ложно”. Самим фактом своего высказывания они производят то, что утверждают, то есть создают новую реальность» [18, с. 17], в том числе и социальную реальность.
Джон Ло обращает внимание на то, что методы социальных наук являются «перформативными» — трансформирующими, производящими реальность. Являясь разновидностью социальных практик, они не просто открывают и запечатлевают различные аспекты реальности, но выступают также инструментами реализации определенной «онтологической политики» [19, с. 99], способными «производить структуры вмешательства в несправедливые материально-семиотические сети» с целью «сделать некоторые реалии более, а другие — менее реальными» [19, с. 142]. Таким образом, оперирующий фактоидами постистинностный дискурс позволяет объяснить известный политтехнологам сдвиг «окна Овертона» в соответствии со шкалой приятия Дж. Тре-виньо — от немыслимого к популярному. Согласно концепции «ползучей нормальности» Даймонда Джареда, крупное изменение может быть воспринято как нормальное и приемлемое, если оно происходит постепенно.
Фактоидам как претендующим на онтологический статус содержательным компонентам социальной коммуникации присущи свойства:
1) интенциональности (выражают индивидуальные информационные и ценностные предпочтения) [см. 15];
2) доксографичности (статистически отражают коллективные представления);
3) дискурсивности (дискурсности) (в качестве инструмента манипуляции индивидуальным и массовым сознанием) [см. 13].
Ни одном из указанных свойств не предполагает функционирования фактоида в гносеологическом смысле — как объективного факта — критерия объективной истинности. И, в то же время, во всех перечисленных ипостасях фактоид как информационный объект постистинностного дискурса, представляет собой полноценный — онтологически конгруэнтный, — феномен индивидуального и массового сознания, а потому, может служить инструментом социально-коммуникативного конструирования идентичности.
Использование медийных дискурсов социально-конструкционистским образом дает основание рассматривать присущий им постистинностный дискурс как перформативную версию «самоисполняющихся пророчеств» (Р. Мертон), как производящую «фак-тоиды» перформативную технологию, выступающую инструментом формирования дополненной (отредактированной, трансформированной) реальности. Норман Мейлер характеризует фактоиды не только как «факты, которые не существуют до появления в журнале или газете», но указывает на их онтологические и функциональные характеристики: это «творения, которые являются не столько ложью, сколько продуктом для манипулирования эмоциями Молчаливого большинства» [цит. по: 20]. Такая трактовка механизма и социально-конструкционистского эффекта действия постправды методологически корректна в рамках «плоской онтологии», располагающей естественное и искусственное, факты и артефакты (в том числе и «фактоиды») в едином онтологическом измерении.
Исходя из целей и задач «фактчекинга», Т ДеМишель полагает, что хотя фактоид может оказаться как фактом (правдой, истиной), так и полуправдой или мифом (ложью, фейком), лучше классифицировать его как миф, а не факт, «поскольку полуправда, несомненно, не верна» [15]. Тем самым он предлагает с позиций критического мышления осмысливать вероятностно-квантовую онтологию информационного объекта в категориях бинарной логики, когнитивно-волевым решением трансформируя характерную для существования информационных объектов онтологическую неопределенность в определенность эпистемологическую.
В свою очередь, рассматривая миф не эпистемологически, а функционально как «долговременный информационный продукт», Г. Почепцов, отмечает его способность, с одной стороны, «опираться на многократно внедренные в человеческое сознание структуры», а, с другой — «задавать возможность для интерпретации не только прошедших, но и будущих событий» [21, с. 334-335].
Заключение
Отмечаемая в последнее время интенсивная экспансия постправды в различные сферы социальной коммуникации является симптомом трансформации процессов социальной идентификации человека в информационном обществе. Модификация когнитивных процессов индивида, сопровождающая процесс его социальной идентификации, позволяет предположить наличие у феномена постправды собственных оснований в виде постистинной онтологии, представленной специфическими информационными объектами — «фактоидами».
Недоопределенность в эпистемологическом плане не является признаком онтологической или познавательной ущербности фактоидов по сравнению с фактами, а указывает на принципиально вероятностный характер их существования. Эта онтологическая особенность позволяет им подобно фактам обретать смысл, минуя вместе с тем процедуры верификации и опровержимости. Благодаря чему фактоиды способны обеспечивать онтологию постфактуального мышления и функционирования сознания в режиме постистины.
Вероятностно-онтологические характеристики фактоидов позволяют им вирусным образом насыщать эпистемологически нейтральные смыслы и смысловые конструкции, придавая когнитивному состоянию осмысленности статус квази-фактологической обоснованности, тем самым симулируя и перформативным образом замещая недостающие, неудобные, игнорируемые, а то и вовсе объявляемые излишними эмпирические компоненты процесса познания. Трансформации когнитивных процессов в технологически виртуализованной информационно-коммуникативной среде соответствуют новым «плоским», одномерно-гетерогенным социальным онтологиям, что имеет существенное значение для формирования новых контуров социального познания, в том числе — социальной психологии, эпистемологии и антропологии.
В гуманитарно-технологическом плане вероятностно-квантовая (неопределенная) природа фактоида, позволяет рассматривать его как онтологический элемент постистинного дискурса и использовать в качестве:
1) инструмента исторической политики и реконструкции идентичности (в случае обращения к прошлому);
2) инструмента символической политики и формирования социальных общностей, на основе конструирования групповых идентичностей (в случае обращения к актуальным смыслам и значениям);
3) прогностически-перформативного инструмента, позволяющего производить не предполагающие фактических оснований «образы будущего», а затем уже с опорой на них, рекурсивным образом трансформировать интерпретации прошлого и модулировать восприятие (оценку) настоящего.
Проведенное исследование, апеллируя к выявленным в ходе анализа постистинным онтологическим основаниям социально-коммуникативного феномена постправды, позволяет обосновать перформативный характер успешно реализуемых в условиях характерного для информационного общества господства постфактуального мышления симу-лятивных социальных, политических и гуманитарных технологий.
- Морозов А.В. Как «постистинный мир» наконец стал гиперверием: рецензия на книгу Стива Фуллера // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т 5, № 3. С. 287-297.
Morozov A.V. Kak «postistinnyy mir» nakonets stal giperveriyem: retsenziya na knigu Stiva Fullera // Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. 2021. T. 5, № 3. S. 287-297. - Keyes R. The Post-Truth Era. Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York: St. Martin’s Publishing, 2004.
Keyes R. The Post-Truth Era. Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York: St. Martin’s Publishing, 2004. - Фуллер С. Постправда: Знание как борьба за власть / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Смирнова. М.: ИД ВШЭ, 2021. 368 с.
Fuller S. Postpravda: Znaniye kak bor’ba za vlast’ / per. s angl. D. Kralechkina; pod nauch. red. A. Smirnova. M.: ID VSHE, 2021. 368 s. - Франкфурт Г.Г. К вопросу о брехне / Пер. с анг. М. Ослона, под ред. Г. Павловского, И. Чечель. М.: Европа, 2008. 120 с.
Frankfurt G.G. K voprosu o brekhne / Per. s ang. M. Oslona, pod red. G. Pavlovskogo, I. Chechel’. M.: Yevropa, 2008. 120 s. - Hardos P. Lee McIntyre: Post-Truth Cambridge, MA: MIT Press 2018, 240 pages (Book review) // Organon F, 2019, vol. 26, no. 2. pp. 311-316. DOI: https://doi. org/10.31577/orgf.2019.26210 (Дата обращения: 15.04.2024)
Hardos P. Lee McIntyre: Post-Truth Cambridge, MA: MIT Press 2018, 240 pages (Book review) // Organon F, 2019, vol. 26, no. 2. pp. 311-316. DOI: https://doi. org/10.31577/orgf.2019.26210 (Data obrashcheniya: 15.04.2024) - Николс Т Смерть экспертизы. Как интернет убивает научные знания. — М.: ЭКСМО, 2019. 244 с.
Nikols T. Smert’ ekspertizy. Kak internet ubivayet nauchnyye znaniya. — M.: EKSMO, 2019. 244 s. - Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали / Пер. англ. В.В. Целищева. М: Академический проект, 2000. 384 с.
Makintayr A. Posle dobrodeteli: Issledovaniya teorii morali / Per. angl. V.V. Tselishcheva. M: Akademicheskiy proyekt, 2000. 384 s. - Кольба А.И. Постправда // Идентичность: личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля / Отв. ред. И.С. Семененко / ИМЭМО РАН. — Москва: Весь Мир, 2023. С. 413-418.
Kol’ba A.I. Postpravda // Identichnost’: lichnost’, obshchestvo, politika. Novyye kontury issledovatel’skogo polya / Otv. red. I.S. Semenenko / IMEMO RAN. -Moskva: Ves’ Mir, 2023. S. 413-418. - Тихонова С. В. Конкуренция науки и лженауки в эпоху постправды // Известия Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т 18, вып. 3. С. 287-291. DOI: 10.18500/1819-7671-2018-18-3-287-291
Tikhonova S. V. Konkurentsiya nauki i lzhenauki v epokhu postpravdy // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser. Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika. 2018. T. 18, vyp. 3. S. 287-291. DOI: 10.18500/1819-7671-2018-18-3-287-291 - Семененко И.С. Введение. Идентичность в мейнстриме политической науки и в фокусе публичной политики // Идентичность: личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля / Отв. ред. И.С. Семененко / ИМЭМО РАН. Москва: Весь Мир, 2023. С. 9-16.
Semenenko I.S. Vvedeniye. Identichnost’ v meynstrime politicheskoy nauki i v fokuse publichnoy politiki // Identichnost’: lichnost’, obshchestvo, politika. Novyye kontury issledovatel’skogo polya / Otv. red. I.S. Semenenko / IMEMO RAN. Moskva: Ves’ Mir, 2023. S. 9-16. - Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. М., 2013. 421 с.
Malinova O.YU. Konstruirovaniye smyslov: Issledovaniye simvolicheskoy politiki v sovremennoy Rossii: Monografiya / RAN. INION. M., 2013. 421 s. - Балаян А.А., Томин Л.В. Акторно-сетевая теория в контексте дискуссий об идеологии и политической онтологии // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 88-94.
Balayan A.A., Tomin L.V. Aktorno-setevaya teoriya v kontekste diskussiy ob ideologii i politicheskoy ontologii // Vestnik Baltiyskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta. Ser.: Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki. 2018. № 1. S. 88-94 - Davies W. The Age of Post-Truth Politics / W. Davies // The New York Times. URL: https://www.nytimes. com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post truth-politics.html (Дата обращения: 02.03.2025)
Davies W. The Age of Post-Truth Politics / W. Davies // The New York Times. URL: https://www.nytimes. com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post truth-politics.html (Data obrashcheniya: 02.03.2025) - Жолудь Р.В. «Эра постправды» в западной журналистике: причины и последствия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2018. №3. С.117-123.
Zholud’ R.V. «Era postpravdy» v zapadnoy zhurnalistike: prichiny i posledstviya // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika. 2018. №3. S. 117-123. - DeMichele T. A Factoid is a Brief Piece Information that Appears True (2015) // FactMyth.com. — URL: https://factmyth.com/factoids/a-factoid-is-a-brief-piece-information-that-appears-true/ (Дата обращения: 02.03.2025)
DeMichele T. A Factoid is a Brief Piece Information that Appears True (2015) // FactMyth.com. — URL: https://factmyth.com/factoids/a-factoid-is-a-brief-piece-information-that-appears-true/ (Data obrashcheniya: 02.03.2025) - Шатин Ю.В. Постправда как риторический феномен в современном медиапространстве // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т 19, №6: Журналистика. С. 250-257. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-6-250-257
ShatinYU.V. Postpravda kak ritoricheskiy fenomen v sovremennom mediaprostranstve // Vestnik NGU. Seriya: Istoriya, filologiya. 2020. T. 19, №6: Zhurnalistika. S. 250257. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-6-250-257 - Маркова Л.А. Актуальность понятия «смысл» // Эпистемология сегодня. Идеи, проблемы, дискуссии: монография / Под ред. чл.-корр. РАН И.Т. Касавина и Н.Н. Ворониной. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госун-та им. Н.И. Лобачевского, 2018. С. 134-138.
Markova L.A. Aktual’nost’ ponyatiya «smysl» // Epistemologiya segodnya. Idei, problemy, diskussii: monografiya / Pod red. chl.-korr. RAN I.T. Kasavina i N.N. Voroninoy. N. Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo gosuniversit. im. N.I. Lobachevskogo, 2018. S. 134-138. - Дудина В.И. Вымышленный кризис социологии и контуры новой эпистемологии // Социологические исследования. 2013. №10. С. 13-21.
Dudina V.I. Vymyshlennyy krizis sotsiologii i kontury novoy epistemologii // Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2013. №10. S. 13-21. - Ло Д. После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. и науч. ред. С. Гавриленко. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 352 с.
Lo D. Posle metoda: besporyadok i sotsial’naya nauka / Per. s angl. i nauch. red. S. Gavrilenko. M.: Izd-vo Instituta Gaydara, 2015. 352 s. - Gutoskey E. What’s the Difference Between a Fact and a Factoid? (2020). URL: https://www.mentalfloss.com/article/637954/fact-vs-factoid-what-is-difference
Gutoskey E. What’s the Difference Between a Fact and a Factoid? (2020). URL: https://www.mentalfloss.com/article/637954/fact-vs-factoid-what-is-difference - Почепцов Г. Психологические войны. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. 528 с.
Pocheptsov G. Psikhologicheskiye voyny. M.: Refl-buk, K.: Vakler, 2000. 528s.