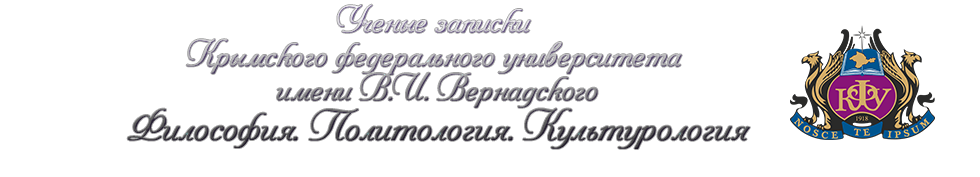ДОКТРИНА УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИИ
THE DOCTRINE OF UKRAINIAN NATIONALISM IN THE POLITICAL
DISCOURSE OF THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE
JOURNAL: « PROCEEDINGS OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE/ PHILOSOPHY/ POLITICAL SCIENSE. CULTURAL STADIES »
Volume 10 (76), № 4, 2024
Publicationtext (PDF): Download
UDK: 327.58
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Melnichuk Sergey Vasilyevich — post-graduate student of the Department of Political Science and International Relations of the Institute «Tauride Academy», V. I. Vernadskiy Crimean Federal University, Simferopol.
E-mail: sergey. melnichuk99@gmail.com
TYPE: Article
DOI: 10.29039/2413-1695-2024-10-4-124-136
PAGES: from 124 to 136
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS Rusyns, Austria-Hungary, national movement, Ukraine, Ukrainian nationalism, UPR.
ABSTRACT (ENGLISH): The article examines the origins and trends characteristic of the Ruthenian and Ukrainian national movements within the Austro-Hungarian Empire. In particular, it describes the mechanisms of interaction between the Austro-Hungarian authorities and the Ruthenian and Ukrainian national movements. The role of nationalist political thought in Austrian
Galicia for the further development of Ukrainian nationalism is described. We believe it possible to indicate that the political context of Austrian Galicia became the basis for the trends that shaped the modern appearance of Ukrainian nationalism. The model of Galician regionalism became the prototype of a large, already common Ukrainian nationalist project.
This approach remains relevant in the Ukrainian political environment to this day. A natural consequence of the actualization of the national question in the empire was the confrontation of two directions of political movements in Galicia: Ukrainophiles and Russophiles. The authorities of Austria-Hungary sought to counteractpro-Russian tendencies in the territory of Galicia, Volyn and Transcarpathia. In this context, more active cooperation of state structures
with Ukrainophile organizations became natural. The antagonism of Austria-Hungary with Russia was a significant factor in the support of national movements by the Austrian authorities. At the same time, this support was implemented on a limited scale with the aim of forming an anti-Russian nationalist-minded population in the East Slavic regions. It was in this context that the formation of Ukrainian nationalist concepts began, which to this day serve as the ideological basis for the confrontation between Ukraine and Russia.
Эскалация «украинского кризиса» в 2022 г. привела к стремительному развитию
тех политических тенденций, которые существовали на территориях, подконтрольных
украинскому государству. В числе таких тенденций — склонность к росту национализма
среди населения. Данное явление отражено во многих аспектах жизни общества, в
том числе и в представлениях населения о внешнеполитическом позиционировании
страны. Актуальность настоящего исследования определена необходимостью
систематизации знаний о факторах, способствовавших становлению Украины как
государства, существующего в постоянном противоборстве с Россией. Пропаганда
националистической идеологии является одним из таких факторов.
Проблематика украинского национализма на территории Австро-Венгерской
империи неоднократно рассматривалась отечественными исследователями, в числе
которых И. Баринов, Г. Иванов, М. Булахин, С. Суляк, А. Погодин, М. Клопова, А.
Миллер и др. Среди зарубежных авторов данной проблематике внимание уделяли В.
Кубшович, Р. Магочий, Ч. Партач, Л. Сэсил, Дж. Химка и др. Вместе с тем, вопросы
проявления внешнеполитических и внутриполитических факторов, способствовавших
возникновению и развитию украинского национализма на территории Австро-Венгрии
(и при поддержке властей этого государства), зачастую имели ситуативное освещение,
что свидетельствует о научной новизне предлагаемого исследования.
Цель исследования — охарактеризовать особенности доктрины украинского
национализма в политическом дискурсе Австро-Венгерской империи.
Русинское национальное движение получило существенный импульс к развитию
в XIX веке в связи с процессами, протекавшими внутри Австрийской (а позже —
Австро-Венгерской империи). Восточнославянское население Галиции, ещё с момента
присоединения земель к Речи Посполитой, подвергалосьразличнымформам ассимиляции
и политическим ограничениям. Включение территорий в состав Австрийской империи
определило новый курс развития национального движения.
В 1846 г. Австрийская империя столкнулась с чередой восстаний, вдохновленных
национально-освободительными движениями. Не стали исключением и восточные
окраины государства, в частности, Королевство Галиции и Лодомерии и город Краков.
Восстание польского освободительного движения порождало риски утраты контроля
над данными территориями Австрийской монархией. Тогда властями государства были
предприняты шаги, направленные на фрагментацию сепаратистского движения.
Польские мятежники изначально были недовольны внутренней политикой,
однако движение быстро приобрело антиавстрийский националистический характер.
Мятежники сражались во многих населенных пунктах, включая и те, где компактно
проживали русины. Власти Австрии взаимодействовали с русинским крестьянством,
а также землевладельцами и духовенством. В первую очередь, австрийские элиты
подогревали противоречия, сложившиеся на социально-экономической почве и
касающиеся того факта, что польские землевладельцы сохранили собственные титулы
после разделов Речи Посполитой.
Л. Берг и К. Корсаков описывали следующее причины указанного конфликта:
«Оказавшись в австрийских владениях, крестьяне-русины оказались в зависимости как от
австрийских императорских чиновников, так и от прежних польских помещиков, причем
феодальный гнет, панщина, жесткая экономическая эксплуатация и дискриминация со
стороны последних лишь усилились, а политика ополячивания и окатоличивания не
прекратилась» [1, с. 81].
Именно поиск лояльной Г абсбургам антипольской (а впоследствии и антироссийской)
общности стал главным стимулом для легитимации русинских национальных движений
в империи. Значительным подспорьем в централизованной поддержке идеологического
базиса проавстрийских русинов стала сформированная властями система школьного
образования. Важна она была, в первую очередь, из-за того, что предусматривала
возможность преподавания на родном для русинов языке. Впоследствии русинам стала
доступна возможность обучения в университете Львова. Данный подход существенно
отличался от политики агрессивной ассимиляции, применяемой в годы владения
Галицией Речью Посполитой.
Ярким примером результативности австрийского взаимодействия с русинским
меньшинством стала история Якуба Шели. В первые месяцы восстания Шеля успешно
руководил крестьянскими формированиями в схватках против Австро-Венгерских войск.
В дальнейшем он принял решение сотрудничать с властями для подавления бунтов. На
сегодняшний день нет единого представления относительно реальных мотивов Шели.
Однако после подавления восстания он был выслан на территорию Буковины, получив
в награду от австрийских властей за участие в подавлении восстания польских дворян
медаль и земельный надел в 17 гектаров.
В дальнейшем во время восстания в Галиции в 1848 г. противоречия между польской
и русинской элитой, подогреваемые Веной, вылились в открытое противостояние. В ответ
на формирование объединительной структуры польских мятежников — «Рады Народовой»
— русинскими общественными деятелями была создана «Руская рада», которая имела
антагонистический характер по отношению к польскому националистическому движению,
что сделало возможным её тесное сотрудничество с Веной.
Данные события ознаменовали собой окончательный разделение двух национальных
движений — польского и русинского. Это означало ослабление любых возможных
будущих бунтов. А. Погодин охарактеризовал результаты данного разделения
следующим образом: «Пути дальнейшей деятельности поляков и русинов разошлись.
В то время как поляки отстаивали свои национальные требования, русины обратились
к представителю высшей власти в Галиции гр. Стадиону с «петицией к монарху», где
заявляли об исконных русских правах на Восточную Галицию. Правительство пошло
на уступки: оно разрешило издание органа на русском языке («Галицийская заря») и
учреждение законного галицко-русского представительства («Головной рады русской»)
[2, с. 33].
Рассматривая результаты австрийской политики, М. Клопова писала: «В эти годы
сформировались и основные политические требования представителей «руського»
населения Галиции, и та политическая линия, которая сохранилась, пускай и в
модернизированном виде, вплоть до Первой мировой войны и распада Габсбургской
монархии. Одним из важнейших элементов этой политики и стала личная преданность
не только Габсбургам, но и конкретно императору Францу Иосифу, которая принесла
русинам репутацию “тирольцев Востока”» [3, с. 158].
Наиболее значимым результатом сотрудничества в момент революционных
выступлений стало формирование воинского подразделения под началом «Рады» —
русинского батальона горных стрелков. Батальон представлял собой вооруженное
формирование лоялистов, поддерживающих монархию Габсбургов, в рамках которого
культивировались попытки формирования русинского самосознания, обособленного от
польской нации. Батальон стал частью вооруженных сил Австрийской империи.
Под началом «Руской рады» русинский батальон принимал участие в подавлении
революционных выступлений в Галиции и в Венгерском королевстве. В его формировании
важным аспектом был национальный характер. Несмотря на то, что население Галиции
было разнообразным, его восточнославянская часть четко противопоставляла себя
польскому народу. В 1849 г. обучение служащих батальона проходило на местном языке.
Помимо этого, символика формирования имела элементы традиционных русинских
орнаментов.
На тот момент на территории восточных границ Австрийской империи русинское
население составляло значительную долю. Э. Реклю считал, что русинов в Галиции в
1869 г. было приблизительно 2 445 700 чел. (поляков — 2 341 000), в Буковине — 210
300 (румын — 195 000). «Огромное большинство населения, — отмечал он, — около 4/5,
занимается земледелием <…> Галиция и Буковина, которые по своим естественным
богатствам могли бы быть одною из житниц мира, принадлежат к числу провинций
Австрийской империи, доставляющих на рынок сравнительно небольшое количество
земледельческих продуктов» [4, с. 335].
Со стороны австрийского правительства была оказана поддержка с частичным
признанием статуса русинов как отдельного от польского народа. Поддержку этому
оказали и религиозные институты, в частности, местная Грекокатолическая церковь.
Позитивное восприятие русинами австрийской монархии укрепилось после реформ,
следовавших за провалившейся революцией. Крепостное право было полностью
ликвидировано, а крестьяне получили в собственность земельные наделы. При этом
они не были обязаны платить компенсацию землевладельцу. В случае с русинами, среди
которых большинство населения были крестьянами, данные реформы дополнительно
способствовали закреплению в общественном сознании установки лояльности
монархии.
Важно отметить тот факт, что положение русинского населения длительное время
оставалось тяжелым. Акты сотрудничества со стороны властей Австро-Венгрии
проявлялись преимущественно в контексте решения геополитических задач. Вопросы
реального благополучия населения зачастую отходили на второй план. И. Дегтярев
отмечал следующую тенденцию: «В течение 1896-1899 годов только из Галичины
в Америку эмигрировало 33,5 тыс. человек, из которых предположительно 75%
были русины. Больше всего их проживало в восточной Галичине и именно оттуда
эмигрировали свыше 2/3 всех указанных переселенцев. Почти треть эмигрантов были
выходцами из западных районов Галичины, где население преимущественно польско-
русинское» [5, с. 1396].
Данные, подтверждающие эту тенденцию, приводил и С. Суляк: «Из-за тяжелого
экономического положения многие русины (в основном лемки из Галичины, русины
из Угорской (Подкарпатской) Руси и австрийской части Буковины) со второй половины
XIX в. вынуждены были эмигрировать в Америку. К концу XIX в. только в США русинов
проживало не менее 200 тыс. чел. В Канаде к концу Первой мировой войны проживало
около 170 тыс. русинов, в основном из Галичины и Буковины» [6, c. 26].
В сфере образования со стороны русинских движений неоднократно
предпринимались попытки добиться соблюдения своих прав. В частности, это
касалось проблемы школ и университетов, в которых преподавание осуществлялось
на русинском или украинском языке. Борьба украинско-русинской общественности
за свои права в сфере просвещения не ограничивалась лишь попытками открытия
университета. Предпринимались попытки создания соответствующих гимназий.
С. Дегтярев так описывал сложившуюся ситуацию: «К примеру, на 1905 год из 37
гимназий в Галичине украинских было лишь 4. Например, хотя в Галичине в 1901-
1902 годах и существовали 1994 украинские школы, функционированию многих из
них активно препятствовали польские власти» [5, с. 1398].
В этом отношении С. Суляк утверждал следующее: «В мае 1910 г. австрийские власти
с подачи украинского националиста Н. Василько, румына по происхождению, закрыли
большинство русинских организаций Буковины. Причиной закрытия были голословные
обвинения в государственной измене и политической деятельности» [7, с. 47]. Среди
запрещенных организаций присутствовали следующие движения: «Общество русских
женщин», «Карпатъ», «Русско-православный народный дом», «Русско-православный
детский приют», «Русско-православная читальня», «Русская дружина», а также
русинские бурсы в Черновцах и Серете.
Закономерным следствием актуализации национального вопроса в империи стало
противостояние двух направлений политических движений в Галиции: украинофилов
и русофилов. Власти Австро-Венгрии стремились противодействовать пророссийским
тенденциям на территории Галиции, Волыни и Закарпатья. В данном ключе закономерным
стало более активное сотрудничество государственных структур с украинофильскими
организациями.
Особую роль в развитии концептов об украинском народе как противовесе русскому
сыграли общественные деятели, формировавшие идеологические основы украинского
сепаратизма при поддержке правительства Австро-Венгрии, среди которых следует
выделить Михаила Грушевского, работы которого («История Украины-Руси» и
«Очерк истории») внесли наибольший вклад в формирования базиса украинской
националистической доктрины.
Основополагающей идеей Грушевского относительно истории Малороссии является
то, что украинцы и русские (великороссы) являются разными народами с различной
культурой, историей и менталитетом. Краткое высказывание Грушевского отражает
его взгляд на отличия двух народов: «Дальнейшая история вела их большею частью
совершенно различными дорогами, представлявшими больше отличий, чем схожестей»
[8, с. 10]. В своих работах он настаивал на том, что отличия многочисленны и охватывают
многие аспекты народной жизни, а также существуют и антропологические различия, в
частности: «устройством тела (формою черепа, ростом, соотношениями частей тела)»
[8, с. 9]. Более того, именно Грушевский был в числе тех, кто сформулировал тезис
о финно-угорском происхождении русского этноса. В последствии это предположение
станет одним из главных тезисов, продвигаемых украинскими националистами.
Считаем возможным обозначить, что именно труды Грушевского сформировали
ранние структурированные идейные основания украинского сепаратизма, а в
дальнейшем украинского национализма. В свою очередь, самого Грушевского, а также
его последователей уместно определить как агентов иностранного влияния в отношении
Российской империи.
Также Грушевский настаивал на суще ствовании украинской группы языков, отличной
от русского. В рамках своей деятельности совместно с различными украинофильскими
организациями он стремился разработать литературную норму языка украинцев. На
сегодняшний день многие российские и украинские исследователи озвучивают мнения о
том, что литературная норма Грушевского в своей структуре соответствовала диалектам
Галиции, без учета специфики других регионов, которые Грушевский определял, как
украинские территории.
Власти империи стремились силовыми методами нейтрализовать любые возможные
акты неповиновения со стороны этнических русинов. Одним из наиболее печально
известных актов борьбы Австро-Венгерского правительства против русофилов стала
организация в первые месяцы Первой мировой войны концлагеря «Талергоф». С. Суляк
приводит такие данные о пострадавших от репрессий: «Через «Талергоф» прошли
не менее 20 000 русских галичан и буковинцев. Талергофский лагерь постоянно
пополнялся новыми партиями заключенных. В Прикарпатье не было села или семьи, не
пострадавших от австро-венгерских властей. В 1914-1915 гг. нередким явлением были
массовые аресты целых селений» [9, с. 71]. Среди заключенных значительную долю
составляли славяне, обвиненные в симпатиях к России.
Показательно, что в условиях войны украинофильские организации продолжали
функционировать. Ярким примером подобного является структура, получившая
название «Главная украинская рада», впоследствии — «Всеобщая украинская рада»,
сформированная на базе трех националистских партий: Украинская национально-
демократическая партия (УНДП), Украинская социал-демократическая партия (УСДП),
Украинская радикальная партия (УРП). Работе данного объединения австро-венгерские
власти не только не препятствовали, но и способствовали связям «Всеобщей украинской
рады» с воинскими формированиями.
Заинтересованность австро-венгерских властей в существовании подобных
объединений была продиктована стремлением контроля над политической активностью
славянского населения Королевства Галиции и Лодомерии. Для этой активности
предполагался конкретный антироссийский путь, из чего следовала целенаправленная
популяризация именно украинофильских движений. Антироссийская направленность
данных структур открыто озвучивалась их представителями. В своей работе «История
украинского сепаратизма» С. Щеголев описывал такой пример этого явления: «В 1910
году кандидатом украинской партии в Галиции Лагодиниским была опубликована речь,
произнесенная на предвыборном собрании; оратор приглашает галичан «организовать
восстание малороссов в России, чтобы пробить окно в великой… тюрьме народов» [10, с.
114]. В рамках данного контекста идеологами украинского сепаратизма целенаправленно
предавался ирредентистский нарратив. Считаем возможным называть это явление
псевдоирредентизмом.
С. Щеголев в упоминаемой работе описывал следующий случай, произошедший в
1910 году, когда поэт Голубец издает стихотворение в честь Шевченко, где «рекомендует
малороссам “встряхнуться от Кубани до Карпат, восстать и сбросить ярмо”. Социал-
демократ Зализняк в агитационной брошюре 1910 года убеждает российских украинцев
“завоевать национальную самостоятельность и освободиться от чужого ярма”» [10, с. 113].
Формирование подобных идеологических нарративов стало основой для
современного украинского националистического дискурса. Принципиальным отличием
от современности является то, что функционально они были призваны расширить охват
антироссийского украинского национализма с последующей интеграцией в «украинский
проект» именно под эгидой Австро-Венгрии. И. Баринов так охарактеризовал
данную тенденцию: «В Галиции стала появляться (а вернее сказать, насаждаться)
украинофильская литература на разительно отличавшихся от западного говора киевской
и харьковской версиях «малороссийского» языка. Постепенно в обиход вошли идеи
польского автора Франтишека Духиньского, согласно которым русские вообще не
являются славянами, а напротив, представляют собой потомков азиатских кочевников,
говорящих на испорченном церковнославянском языке» [11].
События Весны народов и формирование единых государств Германии и
Италии продемонстрировали силу управляемого национализма как инструмента
геополитического противостояния. Территории Малороссии и Новороссии обладали
значимым экономическим потенциалом. После присоединения данных территорий к
России в результате русско-турецких войн была осуществлена успешная долгосрочная
интеграция. По мнению А. Баранова, «быстрый рост населения вследствие миграции
и высокой рождаемости привел к ассимиляции значительной части малороссов.
Это создавало условия для зарождения и укрепления региональной идентичности
Новороссии на основе русского языка, православия, интеграции в общеимперское, а
не формируемое впервые и в противовес имперскому «украинское» пространство» [12,
с. 91]. Дж. Химка оценил последствия преобразований внутри австрийской Галиции:
«Революция коренным образом преобразила Галицкую Русь. Русинское общество
сделало большой шаг вперед с отменой крепостного права, сделав возможным в течение
нескольких десятилетий распространение национального движение в широких массах
галицко-русинского населения. Революция также способствовала развитию русинской
культуры: не только появились первые газеты и периодические издания, но также
появились и первые культурные ассоциации, и первые научные конференции. Это также
сигнализировало о явной политизация русинского движения» [13, с. 41].
Закономерным итогом поддержки украинской идентичности на территориях
империи Габсбургов стало образование регулярных воинских единиц, формируемых
по национальному признаку из числа населения, склонного причислять себя к
украинскому этносу. Ярчайшим примером является «Украинский добровольческий
легион», известный так же, как «Украинские сечевые стрельцы». Функционально
данное подразделение представляло собой не столько военную структуру, сколько
фундамент для популяризации вооруженной борьбы украинского этноса против
российского государства. Поддержку легион получал не только от государства, но и от
ранее упомянутой «Рады».
Дальнейшим этапом эволюции «украинского проекта» считаем возможным
обозначить события Первой мировой войны в контексте действий Германской и Австро-
Венгерской империй. Ход военных действий, а также Февральская и Октябрьская
революции привели к тому, что, по условиям мирного соглашения, заключенного между
РСФСР и Центральными державами в Брест-Литовске, территории Украины были
отторгнуты от России. В этом отношении Л. Сэсил описывал мотивацию Германии
к заключению мира следующим образом: «Брест-Литовские переговоры поставили
вопрос о том, какие намерения имела Германия в Польше и в Прибалтике. Гинденбург
и Людендорф, погрязшие в тот момент в одной войне, но полные апокалиптических
видений о последствиях, с которыми может когда-нибудь столкнуться страна,
настаивали на том, чтобы Германия приобрела бывшую российскую территорию на
востоке, которая могла бы обеспечить адекватную защиту в будущем конфликте. Они
предложили обширные территориальные аннексии, которые увеличили бы население
Германии на несколько миллионов славян, чтобы создать «защитный пояс» против
любого врага, который в ближайшие годы может напасть на страну с востока» [14, с.
264]. Одним из требований в адрес советской России было признание независимости
Украинской Народной Республики (далее УНР). Представляется, что данное требование
было продиктовано стремлением Германии и Австро-Венгрии к эксплуатации западных
территорий России, о чем свидетельствует характер дальнейших отношений между
центральными державами и УНР.
После установления дипломатических отношений на территорию Украины
вступили 24 дивизии германских войск и 10 дивизий империи Габсбургов, которые
были задействованы для подавления актов гражданского неповиновения новому
режиму, а созданное государство выступало в качестве зависимого. Выражалось это
в ряде обязательств, одобренных УНР. Данные соглашения и оккупация превратили
УНР в марионеточное государство, тем самым ознаменовав полноценную реализацию
геополитических целей Австро-Венгрии и Германии в отношении приграничных земель
Российской империи. В свою очередь, данное событие является значимым в контексте
дальнейшей многолетней практики поддержки украинского сепаратизма и антагонизма
с Россией.
С момента образования УНР её руководство стремилось укрепить собственную
легитимность, опираясь на продвижение украинского национализма. Частью
государственной политики стало формирование представлений об украинском этносе
в выгодном для себя ключе. Так, границы, заявленные делегацией УНР на Парижской
мирной конференции, включали территории Крыма, Кубани, Приазовья, современных
Белгородской, Брянской и Курской областей России, территории южных областей
Белоруссии, включая города Гомель, Пинск и Брест, а также восточные территории
Королевства Польского (сформированного Германской империей на занятых территориях
Российской империи). Эти границы во многом совпадали с представлениями Грушевского
о границах украинского культурного пространства, которого и назначили президентом
УНР. Подобные представления об украинском государстве не утратили своего значения
в глазах современных украинских националистов. Указанные «исторические границы»
до сих пор упоминаются в националистической пропаганде.
В отдельных случаях поиски идеологического базиса для нового государства
обретали нетипичные формы. В это время зарождаются попытки формирования некой
альтернативной религии, которая отличалась бы от традиционного православия. Так, ряд
украинских политиков, общественных деятелей и военных стремились сформулировать
концепцию языческого вероисповедания, подчеркивающего обособленность
украинского этноса. Подобные тенденции Т. Беднарчик охарактеризовал следующим
образом: «Обращение к мемуаристике, повествующей о событиях начала ХХ века,
даёт все основания говорить о падении в Украине авторитета православия. Может
быть, это не касалось всех слоёв населения, но среди молодых людей церковные
догматы и традиции теряли своё значение даже без большевистской пропаганды.» [15,
с. 112]. В дальнейшем поиски альтернативной украинской религии будут продолжены
украинскими националистами из числа прогерманских коллаборантов в годы Второй
мировой войны. Сегодня же в среде националистических объединений популярным
оказались различные варианты языческих верований.
Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы:
Антагонизм Австро-Венгрии с Россией выступил значимым фактором поддержки
австрийскими властями национальных движений. В то же время, данная поддержка
реализовывалась в ограниченном масштабе с целью формирования в восточнославянских
регионах антироссийского националистически настроенного населения. Именно в
данном контексте началось формирование украинских националистических концептов,
которые по сей день служат идейным базисом противостояния Украины с Россией.
На территории западных губерний Российской империи украинский проект не
обрел популярности. Наиболее значимой причиной роста популярности украинского
национализмасрединаселенияГалициисчитаемвозможнымобозначитьгосударственную
поддержку подобных тенденций. Именно благодаря лояльному отношению и системной
поддержке политических организаций, СМИ, общественных и научных деятелей,
распространявших украинофильскую пропаганду в регионе, был сформирован
комплексный идеологический нарратив. Помимо поддержки в популяризации,
австрийские власти способствовали устранению главных идеологических противников
данных идеологических течений — русофилов. Идейные принципы, выработанные
в годы австрийского владения Галицией, остаются актуальными для современных
украинских националистов.
References
1. Берг Л.Н., Корсаков К.В. Якуб Шеля: Неизвестные страницы истории. / Русин.
2021. № 64. С. 71-88.
Berg L.N., Korsakov K.V. Jakub Shelja: Neizvestnye stranicy istorii. [Jakub Shela:
Unknown pages of history] / Rusin. 2021. № 64. Pp. 71-88.
2. Погодин А.Л. Русское племя в Австро-Венгрии. Галиция. Буковина. Венгрия /
Русин. 2019. №2(11). С. 26-65.
Pogodin A.L. Russkoe plemja v Avstro-Vengrii. Galicija. Bukovina. Vengrija [Russian
tribe in Austria-Hungary. Galicia. Bukovina. Hungary] / Rusin. 2019. №2(11). Pp.
26-65.
3. Клопова М.Э. Деятели национального движения русинов Галиции и император
Франц Иосиф I. / Славянский альманах. 2019. №4. С. 157-170.
Klopova M.Je. Dejateli nacional’nogo dvizhenija rusinov Galicii i imperator Franc
Iosif I. [Personalities of the national movement of the Rusyns of Galicia and Emperor
Franz Joseph I] / Slavjanskij al’manah. 2019. №4. Pp. 157-170.
4. Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география: пер. с фр. Т III. Швейцария, Гер-
мания и Австро-Венгрия. Издание редакции журнала «Природа и люди». СПб.:
типография товарищества «Общественная польза», 1878. 832 с.
Reklju Je. Zemlja i ljudi. Vseobshhaja geografija: per. s fr. T. III. Shvejcarija,
Germanija i Avstro-Vengrija. Izdanie redakcii zhurnala «Priroda i ljudi». SPb.:
tipografija tovarishhestva «Obshhestvennaja pol’za», 1878. 832 p.
5. Дегтярев И.Д. Общественно-политическая и культурная жизнь украинско-ру-
синского населения Австро-Венгерской империи на страницах журнала «Киев-
ская старина» / Былые годы. 2024. № 19 (3). С. 1394-1406.
Degtjarev I.D. Obshhestvenno-politicheskaja i kul’turnaja zhizn’ ukrainsko-
rusinskogo naselenija Avstro-Vengerskoj imperii na stranicah zhurnala «Kievskaja
starina» [Socio-political and cultural life of the Ukrainian-Rusyn population of the
Austro-Hungarian Empire on the pages of the magazine «Kiev Antiquity»] / Bylye
gody. 2024. № 19 (3). Pp. 1394-1406.
6. Суляк С.Г. Русины в истории: прошлое и настоящее. / Русин. 2007. № 4(10). С.
29-56
Suljak S.G. Rusiny v istorii: proshloe i nastojashhee. [Rusyns in history: past and
present.]/ Rusin. 2007. № 4(10). Pp. 29-56.
7. Суляк С.Г. Русины в период первой мировой войны и русской смуты / Русин.
2006. № 1(3). С. 46-63.
Suljak S.G. Rusiny v period pervoj mirovoj vojny i russkoj smuty [Rusyns during the
First World War and the Russian Troubles] / Rusin. 2006. № 1(3). Pp. 46-63.
8. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. СПб.: Тип. Т-ва «Обще-
ственная польза», 1904. — 382 с.
Grushevskij M.S. Ocherk istorii ukrainskogo naroda [Essay on the history of the
Ukrainian people]. SPb.: Tip. T-va «Obshhestvennaja pol’za», 1904. — 382 p.
9. Суляк С.Г. Талергоф и Терезин: забытый геноцид. / Русин. 2008. № 3-4 (13-14).
С. 69-75.
Suljak S.G. Talergof i Terezin: zabytyj genocid. [Talerhof and Terezin: a forgotten
genocide] / Rusin. 2008. № 3-4 (13-14). Pp. 69-75.
10. Щеголев С.Н. История «украинского» сепаратизма. М.: Имперская традиция,
2004. — 472 с.
Shhegolev S.N. Istorija «ukrainskogo» separatizma. [History of «Ukrainian»
separatism] M.: Imperskaja tradicija, 2004. — 472 p.
11. Баринов И.И. Украинская доктрина в политике Австро-Венгрии и генезис
украинского национализма. [Электронный ресурс] Режим доступа: https:/www.
socionauki.ru/journal/articles/143566/.
Barinov I.I. Ukrainskaja doktrina v politike Avstro-Vengrii i genezis ukrainskogo
nacionalizma. [Ukrainian doctrine in the politics of Austria-Hungary and the genesis
of Ukrainian nationalism] [Electronic resource] URL: https:/www. socionauki.ru/
journal/articles/143566/.
12. Баранов А.В. Этнические процессы на Юге и Востоке Малороссии и их го-
сударственное регулирование в Российской империи (XIX — начало ХХ вв.). /
Научная мысль Кавказа. 2016. №4. 87-95.
Baranov A.V. Jetnicheskie processy na Juge i Vostoke Malorossii i ih gosudarstvennoe
regulirovanie v Rossijskoj imperii (XIX — nachalo HH vv.) [Ethnic processes in the
South and East of Malorossia and their state regulation in the Russian Empire (HIKS
— early 20th centuries).] / Nauchnaja mysl’ Kavkaza. 2016. №4. P. 87-95.
13. Himka, John Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https:/shron1.chtyvo.org.ua/Khymka_Ivan-Pavlo/Religion_
and_Nationality_in_Western_Ukraine_anhl.pdf
14. Lamar Cecil. Wilhelm II: Emperor and exile, 1900-1941. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https:/books.google.ru/books?hl=ru&id=EP6r7AnfdtIC&q=ukrain
e#v=onepage&q&f=false
15. Беднарчик Т. Р. Неоязыческая религиозность в армии украинской народной Ре-
спублики в 1917-1923 годах. / Colloquium heptaplomeres. 2014. №1. С. 110-115.
Bednarchik T. R. Neojazycheskaja religioznost’ v armii ukrainskoj narodnoj
Respubliki v 1917-1923 godah. [Neopagan religiosity in the army of the Ukrainian
People’s Republic in 1917-1923] / Colloquium heptaplomeres. 2014. №1. Pp. 110-
115.